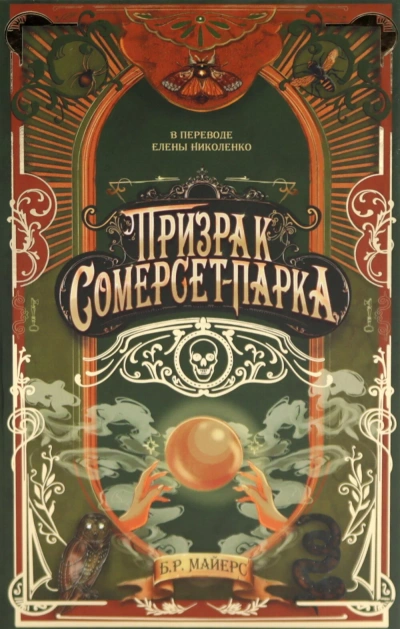Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко
Так оборвалась жизнь талантливейшего художника-живописца Виктора Попкова. Я знаю только, что Витя не любил ездить на такси, и, вероятно, все было подстроено умышленно. Я, как он просил, помогла снять с него посмертную маску и гипсовый слепок правой руки.
С помощью Ильи Глазунова устроили посмертную персональную выставку Попкова в Париже, но она почему-то прошла незаметно, – видимо, не пришло еще его время, и его творчество пока не оценено по достоинству. Я уговорила Клару продать часть работ в Кемеровскую картинную галерею. Но почти все ключевые картины в созданном Витей уникальном, неповторимом «строгом стиле», рисунки и даже эскизы были распроданы в частные коллекции.
На могиле Виктора стоит большой православный крест. Недавно я там была. Могила заросла, ее давно никто не навещал. Как он и говорил, Клара вскоре вышла замуж за секретаря Союза художников РСФСР. Сын Алеша спился.
Я стояла и думала… Сколько бы мог он еще сделать, ведь творческий путь его оборвался рано. Он вел дневники, которые исчезли в день его смерти. Возможно, когда-нибудь мы узнаем, о чем он думал и мечтал.
Московская средняя художественная школа
В 1939 году И. Э. Грабарь добился открытия в Москве средней художественной школы. Находилась она в центре столицы, на Каляевской улице (сейчас Долгоруковская). Первым директором школы стал Петр Тихонович Мещеряков. Со дня основания в школе работали Михаил Владимирович Добросердов, Александр Осипович Барщ, Константин Михайлович Молчанов (кстати, участник первой художественной выставки в Берлине в 1922 году), Василий Васильевич Почиталов, Акендин Петрович Шорчев, Сергей Павлович Михайлов.
В начале Великой Отечественной войны Мещеряков ушел на фронт, его заменил Николай Августович Каренберг, заместителем по учебной части стал Ашот Григорьевич Сукеасян. В то сложное время школу поддерживали К. Юон, И. Грабарь, В. Сварог, В. Яковлев и многие другие художники. Значительную помощь оказал ей Сергей Васильевич Герасимов.
В 1941 году школа эвакуировалась в Башкирию, в Воскресенск. Туда уехали многие педагоги, преподаватели общеобразовательных дисциплин, ученики с родителями. Часть учеников прямо оттуда ушла на фронт, и лишь единицы вернулись живыми.
Мне было пятнадцать лет, когда в семье решили отдать меня в художественную школу. Папа отвел меня к Василию Васильевичу Почиталову. Я сделала скульптуру солдата с матерью. Почиталов ласково со мной поговорил и дал новое задание. Я его выполнила. Так повторялось несколько раз. Когда школа вернулась из эвакуации, папа отвел меня на экзамен. Конкурса не было, так как в школу в Башкирии никто за эти годы не поступил и поэтому классы набирали заново. Я очень боялась провалиться – другие ребята были лучше подготовлены. Коля Андронов, Юра Звездкин, Паша Никонов и другие пришли из Дома пионеров и уже хорошо рисовали. Ко всеобщей радости, всех нас зачислили.
В 1943 году школа находилась в районе 1-й Мещанской улицы, в переулке Островского, рядом с небольшим рынком. Во время перемены мы бегали на рынок и выменивали сэкономленные кусочки сахара и хлеба на карандаши, бумагу и резинки. Когда рынок закрывался, на его площади ребята играли в футбол. Заядлыми футболистами считались Павел Никонов, Слава Филимонов и Игорь Агапов.
Николай Августович Каренберг каждого воспитанника знал лично, ко всем относился с любовью и пониманием. В школе нам давали рабочие карточки, нас одевали, обеспечивали мылом, обувью, красками. Мы жили как в большой дружной семье; часто наведывались в интернат, где жили приезжие ученики. Девочки шефствовали над мальчиками. Помню, я сшила черный халат Коле Терещенко, а моя подруга Марианна Оленева – Саше Фомкину. Мы не оставляли друг друга в беде. Когда тяжело заболел мой отец, ребята отдавали мне свои пайки хлеба и сахара, а я меняла их на лекарства.
В четвертом классе мы уже рисовали гипсовую голову с анатомическим обоснованием. Гипс был «спорным», считали, что рисование с него – консервативный, изживший себя метод, и только Молчанов пользовался гипсовыми слепками для постановки. И. Э. Грабарь, будучи директором Института истории искусств АН СССР, часто посещал школу, приглашал в свою мастерскую, рассказывал об искусстве живописи.
Среди школьных работ выделялись композиции Виктора Бабицина, живопись Киры Бахтеевой, Саши Суханова, а по рисунку особенно отличался Виктор Иванов. Семья Виктора была бедной, родители малограмотными. Они хотели, чтобы мальчик пошел учиться в школу ФЗО, но Константин Михайлович Молчанов настоял, чтобы его отдали в художественную школу.
Напротив Третьяковской галереи построили новое здание школы, и мы переехали в него. Помню, когда Третьяковка возвратилась из эвакуации, мы ходили смотреть, как развешивают картины. Однажды наш ученик Ганди Юмагузин пришел в интернат, пряча что-то под телогрейкой. Оказалось, он стащил из галереи «Сирень» Врубеля. Мы хором стали укорять Ганди, а он виновато объяснял: картина ему так понравилась, что он не мог удержаться. Мы потребовали, чтобы он немедленно вернул «Сирень» в Третьяковку на то место, откуда ее взял. Пересилив страх, мальчишка вернулся в галерею и положил картину на место. К счастью, никого не было, и никто не хватился пропажи.
Со мной училась Алла, дочь генерала Телегина. После войны Телегин был членом Военного совета Группы советских войск в Германии, заместителем маршала Жукова в Берлине. Позже был репрессирован, несколько лет провел в тюрьме. Алла поступила к нам в класс в конце войны. Красивая, доброжелательная и веселая белокурая, сероглазая девочка. Мы сразу как-то подружились. Она спокойно переносила все тяготы нашей, тогда нелегкой, жизни. Как-то мы пошли вместе на пятый этаж школы, где был расположен интернат. Там жили дети, оказавшиеся без родителей, многие были из других республик бескрайнего Союза. Убогая обстановка, голые стены, большие окна, пустые кровати, покрытые какими-то старыми одеялами, пустые тумбочки, холод в помещении – все это произвело на нас ужасное впечатление. Ведь мы все жили дома, хотя и было нелегко, но у нас были любящие родители и теплая, родная обстановка.
Я предполагаю, что дочь Телегина написала отцу о нашей школе и жизни интернатовцев. И вот неожиданно к подъезду школы подъехали две крытые брезентом машины. Мы бросились к окнам. Из машин стали выносить картины в золотых рамах (это были копии работ знаменитых мастеров XVII–XIX веков), гипсовые слепки, великолепные кубки, бокалы, старинную мебель (шкафы, кресла, диваны, столы), подушки, теплые одеяла, белье, занавески, мыло и еще многое другое. Но главное – книги по искусству в золотых переплетах, бумагу, краски. Все эти богатства, как потом выяснилось, нам прислал генерал Телегин.
Часть бумаг, книг оказались обгоревшими, но репродукции в них