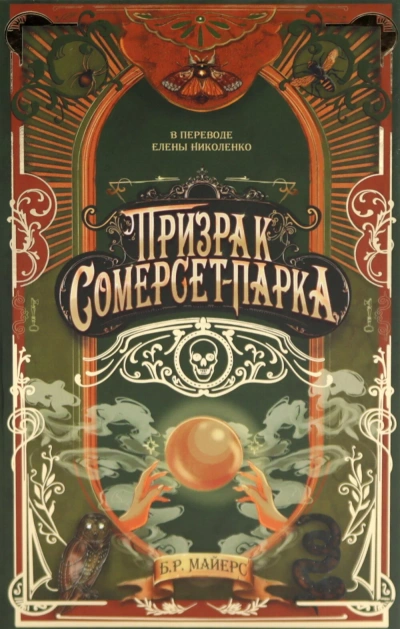Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко
Аркадий сдержал слово, прислал вызов, но меня в Вену не пустили. Приглашение пришло от строительной фирмы, которая была связана с московским Метростроем. А что может делать в Австрии женщина в возрасте 70 лет? Никого не интересует, что я единственный специалист в мире, осушающий здания и сооружения. Идут люди в метро, и никто не знает, что, не будь моего метода и уникальных составов, вода уже давно бы залила станцию «Белорусская», что моими усилиями осушена станция «Краснопресненская», которая долгое время была закрыта для входа и выхода…
Я позвонила Аркадию, сказала, что мне в визе в Австрию отказано.
– Не волнуйся, – успокоил он, – мы пришлем тебе гостевое приглашение.
И вот я в Вене. Город произвел на меня сильное впечатление. Красивые дома в стиле «модерн» стоят все отреставрированные, покрашенные; на площадях множество клумб с необычайным разнообразием цветов. Всюду чистота и порядок; даже машины едут как-то по-особому, спокойно. Огромное количество кафе, магазинов – все радует глаз художника. Увидев большую трубу с золотым шаром и цветными вставками, я поинтересовалась у Аркадия, что это за сооружение. «Это знаменитая мусоропереработка, превращенная архитектором Хундертвассером в произведение архитектурного искусства». Хундертвассер создал новые пластические формы зданий, где стены не имеют прямых углов. Впитав идеи испанца Антонио Гауди, он делал проекты, в которых, помимо архитектурных элементов, применял повсеместно раскраску: зигзаги, то сужаясь, то расширяясь, создают иллюзию текучести форм.
Я снова и снова восхищалась архитектурой этого города, где ничто не повторяется, все разное: дома с разнообразными окнами, наличниками, колоннами, золотые скульптуры, необычная планировка кафе, ресторанов, магазинов – все подчинено творческой художественной мысли, замыслу художника нового века.
Я прожила у Аркадия две недели. До его отъезда из Москвы я видела его всего два раза, и мне хотелось узнать о нем побольше. Прочитав мой рассказ из будущей книги о художнике Михаиле Вербове, он вдруг сказал:
– Таня, ведь я когда-то учился вокалу у Нины Александровны Вербовой в Институте Гнесиных. Имеет ли она какое-нибудь отношение к этому художнику?
– Да, – ответила я, – это его родная сестра, читай дальше.
Нина Александровна Вербова была деканом факультета и считалась авторитетным специалистом по вокалу. Крупная, полногрудая женщина обладала особым обаянием; ее побаивались и не только уважали, но и искренне любили и почитали.
Аркадий рассказал мне, что, когда он встретился с Машей, он работал главным инженером на большом предприятии, получал хорошую по тем временам зарплату. Маша после окончания института попала под его начало, они полюбили друг друга и вскоре поженились. Маша ждала ребенка, когда они решили уехать. Возникало много проблем, ведь надо было все бросить и ехать в другую страну, не зная языка, не имея достаточно средств. Но Абрам Ефимович почему-то поверил в успех перемены местожительства – тюрьмы и лагеря сделали свое «черное дело». Возможно, квартира и даже сама Москва напоминали ему ужасные годы, которые он провел в заключении. И он, как затравленный зверь, решил бежать, скорее бежать, хотя бы куда-нибудь, но – «отсюда».
В Москве Маша училась музыке и очень хорошо играла на виолончели. Когда она заболела, Аркадий, достав инструмент, увидел, что смычок… сломан пополам, как и Машина жизнь. Сейчас Маша безнадежно больна, у нее рассеянный склероз; меня она, конечно, не узнала. Болезнь прогрессирует, Аркадий каждый день ездит к Маше в больницу, делает все возможное и невозможное.
Аркадий созвонился с Бубой, и мы поехали к ней в гости. Буба жила в красивом доме стиля «модерн» в самом центре Вены. На старинном лифте с хрустальными вставками и роскошными зеркалами мы поднялись на второй этаж. Нас встретила высокая стройная женщина и пригласила в уютную квартиру, где все было выдержано в лучших традициях серебряного века. Со стен смотрели на меня картины Гончаровой, Малевича, Малявина.
Стол был уже накрыт, и Буба начала хлопотать, ставя на него блюда из рыбы, специально приготовленные ею к нашему приходу. Чем-то она напомнила мне Елизавету Ефимовну: та же спокойная, царственная осанка, та же неторопливая культурная речь, та же милая улыбка и чистый, как ручеек, смех. Буба сразу покорила меня, в ее доме было тепло и приятно душе. Она расспрашивала меня о Москве, о жизни художников, о моей семье, моей работе. Я прочла то, что написала о тете Лизе и Абраме Ефимовиче. Буба многое подсказала мне и показала письма и фотографии, которые бережно хранила, и обещала сделать с них копии. Обещание она сдержала.
Семья Хвостенко и Павел Корин
Богомазы из Борисовки
В 1948 году я работала на фабрике росписей тканей в Москве. Однажды к нам приехала высокопоставленная делегация. Один из делегатов, незнакомый мне пожилой человек, пожав мне руку, спросил:
– Вы дочь Василия Хвостенко?
– Да, – ответила я.
– Вы родились в Борисовке?
– Нет.
– А бывали там?
– Ни разу…
Гость улыбнулся:
– Обязательно побывайте. В тех краях особая, благодатная среднерусская природа. А особенная достопримечательность там – две церкви, расписанные вашими предками…
Мое удивление росло.
– А батюшке вашему передайте особый привет, – сказал незнакомец.
– От кого?
– От родственника вашего, Твердохлебова. Он знает…
В Борисовку я попала только в 1968 году.
Плавно изгибаясь, течет прозрачная река Ворскла. С ее песчаного берега открывался чудесный вид на слободу Борисовку. Пять церквей возвышалось над ней, а дальше шли чередой ветряные мельницы, придававшие слободе особую прелесть и ощущение вечного движения. За ними тянулись луковые поля.
С незапамятных времен славились эти места художественными промыслами. В слободе Борисовке Грайворонского уезда Курской области существовал промысел иконописный, им занималось до революции около 500 человек. Зарядился он с тех самых времен, когда генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, один из ближайших помощников Петра I, после победы над шведами в Полтавской битве решил основать в Борисовке в честь иконы Тихвинской Божьей Матери женский монастырь и прислал расписать его художника Игнатова. Игнатов набрал себе учеников и организовал небольшую школу, где обучал рисунку, живописи и иконописи.
Через несколько лет монастырь стал центром не только иконописи, но и продажи икон.