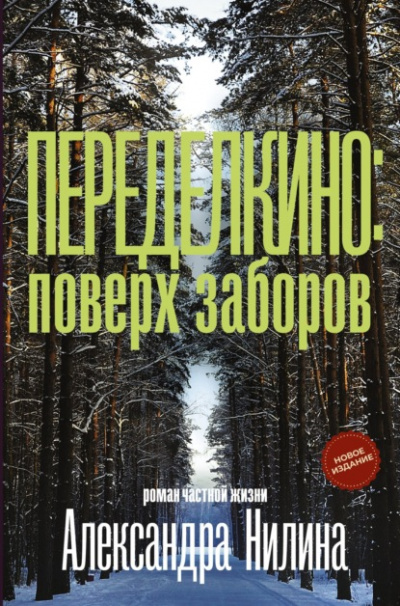Волга. Русское путешествие. Избранные главы - Гейр Поллен
Пока в российской столице полыхают эти культурные баталии, обратим свой взор к Александру Дюма. Он, разумеется, давным-давно завершил свое путешествие и, сразу после возвращения во Францию, собрал свои путевые заметки в объемный подробный труд. «Путевые впечатления. В России» вышли в Париже в 1860 году, и издательства в Тбилиси и Нью-Йорке незамедлительно перевели их на русский и английский. Захватывающая, как и все произведения писателя, книга в то же время не дает поводов придраться к сведениям о положении дел в России. Прославленный, невероятно плодовитый автор на протяжении нескольких десятилетий держал целый штат литературных рабов и сотрудников для исследовательской работы, именно они помогали ему переносить на бумагу и подавать ненасытной публике все помыслы его широкой романтической души. В сентябре 1870 года, в то самое время, когда «Борис Годунов» с успехом идет на сцене в Санкт-Петербурге, у шестидесятивосьмилетнего Александра Дюма случается удар, после чего его, полупарализованного, перевозят на виллу к сыну в Дьепп, на Нормандское побережье. Там он и умирает 5 декабря 1870 года, так и не написав роман о царевиче Дмитрии, ставшем святым Димитрием Угличским, а не царем.
Торговый дом П. А. Смирнова
Одному ли мне кажется, что у нашего провожатого по первому в мире муниципальному музею водки раскраснелись щеки и блестят глаза? Облаченный в отполированные черные туфли, чистые джинсы, ослепительно белую рубашку и лоснящийся пиджак цвета асфальта, он с оживлением и безупречным красноречием объясняет нам устройство «первой механизированной машины для розлива самогона и водки», показывает выставку самогонных аппаратов, старинные кувшины, бутылки, этикетки, стопки, графины и отдельную полку с товарами для ностальгирующих по советскому прошлому. Сами по себе экспонаты безмолвствуют, но, когда наш неколебимый, как скала, не отклоняющийся от темы экскурсовод раскрывает нам хитрости производства, в ушах начинаются свист, бульканье и звяканье. В трех зальчиках, едва вмещающих два десятка человек единовременно, представлены «девяносто шесть русских производителей ликеро-водочных изделий», «более ста лет опыта работы», «тысяча сортов водки». Кроме того, в немалом количестве представлены и зарубежные экспонаты. Экскурсия заканчивается в «Русской избе», отдельном дегустационном уголке, где посетителям внушается, что основная цель деятельности музея – «привить грамотное отношение к питию и повысить культуру потребления национального русского напитка – водки». На выходе все желающие могут приобрести в небольшом, но предлагающем богатый ассортимент товаров магазинчике «горячительные» сувениры и копии старинной питейной посуды.
Расположенный в центре Углича Музей истории русской водки основан на идее, украденной у жителей соседнего городка Мышкина, как утверждают последние. Нельзя сказать, что обвинение взято с потолка, ведь имя, витающее над ламинатом во всех трех выставочных залах, принадлежит человеку, который действительно родился 9 января 1831 года в крохотной деревушке на тот момент Мышкинского уезда. Каюрово, как называлась деревня, вошла в состав Угличского уезда, когда Пётр Арсеньевич Смирнов уже стал всемирно известным человеком, одним из богатейших в России. Смягчающим обстоятельством в этой связи можно счесть тот факт, что дядя Петра в 1835 году открыл трактир и постоялый двор именно в Угличе. Здесь, уже с десятилетнего возраста, трудился будущий водочный король.
Родители его были крепостными, но имели возможность, отработав посевную и уборочную, выезжать за пределы поместья на отхожий промысел. В 1857 году отец скопил достаточно денег, чтобы выкупить себя и двух старших сыновей, Петра и Якова, из крепостной зависимости. С вольной грамотой на руках они через год смогли переехать в Москву и открыть винную лавку, о чем давно мечтали. Говорят, что однажды одна из покупательниц, которой симпатизировал молодой Пётр, подарила ему лотерейный билет, и выпавший на его долю выигрыш оказался столь велик, что позволил семье Смирновых открыть еще одну винную лавку. Считается, что это произошло в 1860 году, и в тот же год было зарегистрировано торговое заведение «П. А. Смирнов», а сам Пётр Арсеньевич занесен в третью купеческую гильдию.
С тех пор дела у предприятия шли лишь в одном направлении – в гору, но это заслуга не столько исключительного таланта продавца, сколько всё возраставшего интереса к самому товару. В России XIX века успеху торговли алкогольными напитками перспектива быстрого опьянения определенно способствовала куда более, чем вкусовые качества оных. Пётр Смирнов решил это исправить. С детства он хорошо разбирался в растениях, встречавшихся в родных краях. Теперь же он начал ездить по России, составляя перечень ягод и трав, которые могли бы использоваться в производстве не только водки, но и других крепких напитков и ликеров. В этих странствиях Смирнов наладил знакомство с местными крестьянами, которые занимались собственно сбором. Особого успеха он добился, например, с удивительно сладкими ягодами рябины, растущими только возле Суздаля во Владимирской губернии, в двухстах шестидесяти километрах к северо-востоку от Москвы, но можжевельник из северных краев и клюква с Валдайской возвышенности также способствовали улучшению как вкуса продукции, так и продаж. Среди крепких напитков вперед вышла так называемая народная водка № 21. Пол-литровая бутылка стоила полтину. № 40 стоила рубль: вдвое дороже, но не вдвое вкуснее. Дешевое теперь не обязательно означало плохое, во многом благодаря тому, что П. А. Смирнов первым в мире придумал фильтровать спирт через древесный уголь – этот метод обеспечивал конечному продукту совершенно иную чистоту. В то же время Смирнов проявлял поразительную смекалку и в других областях предпринимательства. Мало того, что он сам разрабатывал дизайн большинства этикеток и упаковок. Когда крестьяне пожаловались, что купленные в городе бутылки часто бились на ухабистых дорогах по пути домой, он немедля распорядился, чтобы спиртное