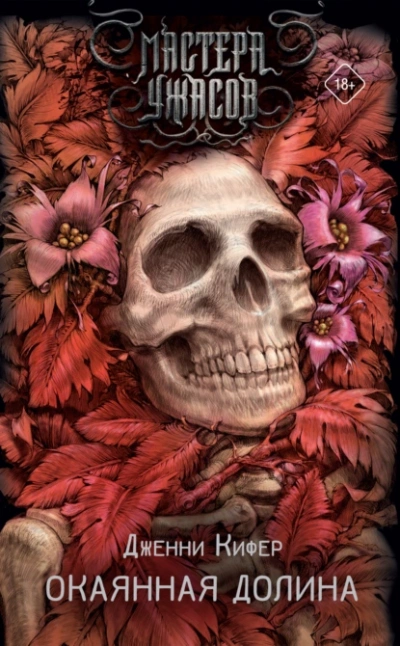Политическая коррупция в Третьем рейхе - Грибов Андрей Юрьевич
Решение задачи
Ранее считалось, что задача «Сколько дураков вокруг нас?» нерешаема. На предположение «80 % людей — идиоты» обычно следовал ответ: «Так думают только те, кто до 90 считать не умеет». Часто утверждают: «Все вокруг дураки».
Но у этой задачи есть решение, и лежит оно исключительно в плоскости оценки IQ лица, задающего этот вопрос.
Это означает, что если IQ вопрошающего, не дай бог, равно 70, то все люди вокруг него — умные. Или, как говорят наши «небратья»: «Дурних нема». Если IQ вопрошающего равен 100, то ему также легко: половина окружающих его людей глупые, а другая половина — умные. А вот если IQ вопрошающего равен 130, то тогда возникает проблема. Ведь для него только 6 % окружающих умны, а все остальные глупы.
А представьте себе, насколько тяжело Перельману с его IQ, существенно превышающим оценку в 200 единиц. Он действительно объективно видит, что руководство Института математики глупее его в области развития данной дисциплины. Организационные способности их он не оценивает, но с точки зрения математика-теоретика он действительно прав. Ему на самом деле не с кем поговорить, поскольку равного ему по интеллекту человека просто нет. Но это не значит, что в Институте математики все глупые. Нет. Там у всех IQ выше 130. Там все по-настоящему одаренные. Просто они все намного глупее его, реального гения.
Поэтому если вам кажется, что вокруг вас все дураки, то проблема не в окружающих. Проблема в вас. Это вы слишком умные.
А общества, состоящего только из умных людей с IQ выше 130, вы не найдете, потому что закон нормального распределения отменить невозможно. Так что привыкайте жить среди более глупых людей. Это будет следующий этап вашего обучения и «поумнения».
25.11.2022
Кому выгодна победа Си Цзиньпина
на XX съезде КПК?
Китай сейчас не является монолитной, сплоченной этнической державой. В нем живет огромное множество национальностей, говорящих на разных языках и иногда даже не понимающих друг друга. Также нет единого экономического и, соответственно, политического вождя — «императора».
Как объясняет ведущий китаевед Н. Н. Вавилов, экономика Китая поделена между тремя основными кланами, соответственно, имеющими разное политическое влияние. Северо-западный «Сианьский» клан «коммунистов», который возглавляет Си Цзиньпин, контролирует лишь около 10 % экономики Китая. Правда, это ВПК и остальной бизнес, связанный с армией и силовиками. Поэтому «коммунистов» называют «партией победы» или «партией войны». Они не настроены на дружбу с США, зато ратуют за присоединение Тайваня военным путем.
Более южный «комсомольский» клан во главе с Ху Цзиньтао и его ставленником Ли Кэцяном контролирует около 60 % экономики и ориентирован на добрые взаимоотношения с США. Воевать с Тайванем не хочет.
А «шанхайский» клан, хоть и настроен проамерикански, ратует за войну с Тайванем. Контролирует он около 30 % экономики.
Но мы видим по результатам XX съезда КПК, что Ху Цзиньтао выводят из президиума под руки, а его ставленника Ли Кэцяня, с которым они контролируют 60 % экономики, даже не избирают в ЦК КПК. А Си Цзиньпин, контролирующий только 10 % экономики, получает почти монопольную политическую власть. Правда, при поддержке «шанхайцев». Но проамериканских.
С точки зрения науки под названием «политическая экономия» это немного странно. Образно говоря, представьте себе, что тигр весом 100 килограммов загрыз тигра весом в 600 килограммов. Правда, при некоторой поддержке тигра весом в 300 килограммов.
Да и факт поддержки пророссийского Си Цзиньпина проамериканскими «шанхайцами» вызывает серьезные вопросы.
Вроде бы и быть такого не может! Но ведь именно так и произошло.
Так, может быть, мы просто не видим других игроков, которые незаметно участвовали в схватке? Образно говоря, может быть, были еще 3–4 тигра по несколько тонн каждый, но невидимых?
Давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию в финансовоэкономическом спектре видения и проанализируем финансовоэкономические интересы четырех крупнейших мировых игроков: ВПК США, углеводородного бизнеса США («Семь сестер»), финансового сектора США и России (оружие и углеводороды).
Что выгодно ВПК США: мир или война? Могут ли Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon и другие сохранить и увеличить свою выручку в мирное время? Конечно, нет. Им нужна война.
Но на Украине уже идет война. И в Сирии идет война. Может быть, этого достаточно? Нет. И на Украине, и в Сирии война наземная, сухопутная. Эти войны обеспечат заказы на танки, самолеты, воздушные дроны, ракеты типа «земля — земля» и «воздух — земля». Но заказы на авианосцы, эсминцы, подводные дроны и противокорабельные ракеты просядут. Нужно ли это ВПК США? Нет. Значит, необходимо организовать войну на море.
Сигналом был взрыв «Северных потоков», совершенный, скорее всего, с использованием подводных малошумных дронов. И, хоть это событие и подстегнуло заказы на подводные дроны-минеры, дроны-саперы и антидроны, этого недостаточно для серьезной загрузки заводов военно-морских подрядчиков Пентагона. Нужна серьезная морская война.
А с кем? Россия на 90 % сухопутная страна, а Сирия вообще не того ранга игрок, под которого можно выбить военные ассигнования на перевооружение флота. Зато Китай — наполовину водная держава, очень богатая и с большими макроэкономическими и, следовательно, геополитическими амбициями. Военный конфликт богатого Китая, поддерживаемого милитаризованной Россией, с дружественным для США Тайванем для военно-морской части ВПК США — это просто манна небесная.
Поэтому ВПК США гораздо более выгодна победа Си Цзиньпина на XX съезде КПК. Если «товарищ Си» выигрывает, то начинает войну за Тайвань. Тогда из конгресса США можно будет выбить несколько сотен миллиардов долл. США на перевооружение американского
флота. Да и «союзники» — Япония, Южная Корея и Австралия — раскошелятся. А если война на суше Тайваня затянется, то и сухопутной части ВПК США дополнительные заказы «обломятся». Короче говоря, на данном историческом этапе ВПК США выгодна победа Си Цзиньпина. Очень выгодна. В пятилетнем горизонте выгода составит никак не менее 1 трлн долл. США.
Что выгодно углеводородному бизнесу США (British Petroleum, Exxon, Gulf Oil, Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron и Texaco): мир или война? Как я уже писал в работе «Являются ли США нашим врагом в войне на Украине?»[215]: «Средняя себестоимость при добыче нефти составляет 20 долл. США за баррель. Как объяснить потребителям, почему эту нефть надо продавать дороже 90 долл. США за баррель? В нормальном мирном мире прибыль от продажи ископаемых никак не может составлять 300–400 %. Совсем никак! 20 % может. Максимум 30 %. Но никак не 300 %!
И прибыль именно такой разумной и была до арабо-израильского конфликта. Только военные действия арабов при поддержке СССР, и соответственно, евреев при поддержке США увеличили цену на нефть в 4 раза. И с тех пор эта война и использовалась США, Россией и арабским миром для „непрозрачного“ роста цены на нефть. Когда арабо-израильский конфликт начинал затихать, „случайно находились“ якобы враги США в арабском мире: в Иране, Ираке и даже Афганистане. И сейчас „семь сестер“ остро нуждаются в крупной милитаризированной державе, геополитические действия которой являлись бы убедительным предлогом для повышения цен на нефть. Для нефтегазового сектора война сейчас не просто „мать родна“, но и обязательный ингредиент бизнес-деятельности. Поэтому для ВПК и нефтегазовой промышленности США однополярный мир неприемлем. Победа „мира во всем мире“ приведет к резкому снижению доходности этих секторов и, соответственно, смене экономической, а значит, и политической элит в США, да и во всем мире. Им позарез нужен образ врага, который можно показывать американским (и не только!) гражданам».