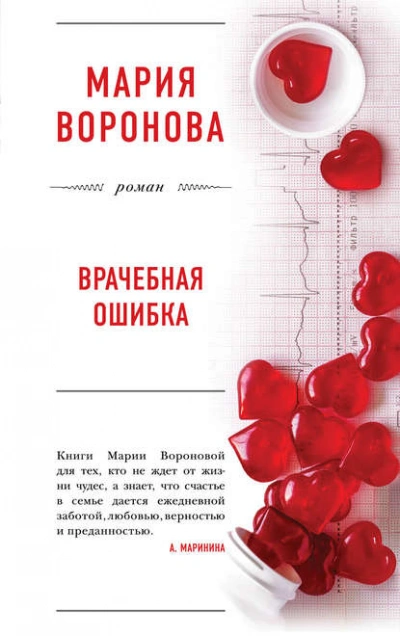Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Сергей Сергеевич Марков
На Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1940 г. компания Westinghouse Electric представила двух роботов — Elektro и Sparko, а также машину под названием «Ниматрон» (Nimatron), способную играть в ним.
Главным конструктором машины был американский физик-ядерщик Эдвард Кондон, который с 1937 г. занимал в Westinghouse Electric позицию заместителя директора по исследованиям[448]. Идея сделать машину для игры в ним пришла к Кондону, когда он понял, что пересчётные схемы, которые используются в счётчиках Гейгера, можно применить для представления чисел, описывающих состояния игры[449]. Кондон разработал и собрал «Ниматрон» зимой 1939/40 года с помощью своих ассистентов — Джерельда Тоуни и Уилларда Дерра. 26 апреля 1940 г. он подал заявку на получение патента на устройство, который был выдан 24 сентября того же года[450].
Масса машины, логика которой была основана на электромеханических реле, составляла более тонны[451]. На передней панели «Ниматрона» располагалось четыре столбца по семь ламп. Игрок, делая ход, мог погасить одну или несколько ламп в одном из рядов, после чего очередь хода переходила к машине. Если «Ниматрон» проигрывал партию, то выдавал игроку жетон с надписью Nim Champ (Чемпион по ниму).
Рис. 52. «Ниматрон»
Первая версия машины совершала свои ходы моментально — по оценке Кондона, на выбор хода у «Ниматрона» уходило менее одной сотой доли секунды. Но такое поведение механического соперника слишком пугало игроков, и разработчики решили добавить в схемы замедляющие цепи. Таким образом, машина делала вид, что в течение нескольких секунд обдумывает ход. По мнению Кондона, это был первый в истории случай намеренного замедления работы компьютера[452].
«Ниматрон» всегда выбирал оптимальные ходы, но разработчики решили всегда предоставлять право первого хода человеку, а в качестве стартовой позиции выбиралась одна из девяти заложенных в память машины позиций, в которых игрок, делающий ход первым, при правильной игре выходил победителем. Когда кто-нибудь из посетителей, раздосадованных проигрышем, заявлял, что машину обыграть невозможно, операторы стенда показывали, как это можно сделать[453]. За время выставки в игру сыграло не менее 50 000 человек, из которых около 90% не смогли выиграть у «Ниматрона»[454].
В последний раз машина участвовала в выставке в 1942 г. в Нью-Йорке, затем «Ниматрон» был перемещён в научные коллекции Планетария в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где какое-то время демонстрировался публике[455], после чего следы машины теряются.
«Ниматрон» был одной из первых в мире машин, способных играть в игру, иногда его даже называют первой в мире компьютерной игрой. Это, по всей видимости, действительно так, если не принимать в расчёт «шахматного игрока» (El Ajedrecista), о котором мы расскажем несколько позже.
Несмотря на этот успех «Ниматрона», Кондон считал его одним из самых больших провалов в своей карьере — ведь он не смог увидеть весь потенциал машины: «Это было как минимум за четыре или пять лет до Джонни фон Неймана, Эккерта, Мокли и всего этого цифрового компьютерного бизнеса, и [я] ни разу не подумал об этом всерьёз; я просто думал об этом как о забавной штуке, но схемы и всё прочее были точь-в-точь такими же, как позже в компьютерах, программируемых компьютерах». В итоге влияние «Ниматрона» на цифровые компьютеры и компьютерные игры оказалось незначительным[456].
Вслед на «Ниматроном» было создано множество других машин для игры в ним. В 1948 г. Реймонд Редхеффер представил машину массой менее 2,5 кг. По словам Редхеффера, её конструкция была разработана им в 1941–1942 гг.[457] Несколько лет спустя компания Ferranti, занимающаяся разработкой электротехнического и военного электронного оборудования, создала первый цифровой компьютер, предназначенный для игры в ним, — «Нимрод» (The Nimrod). Он был представлен на Британском фестивале (научная выставка) в мае 1951 г., а затем на Берлинской торговой ярмарке (промышленная выставка) в октябре того же года. На этих выставках «Нимрод» произвёл настоящий фурор. Многие очевидцы рассказывали, что наибольшее впечатление производила не игра с «Нимродом», а наблюдение за мигающими огнями, которые должны были отражать мыслительную деятельность машины. Чтобы контролировать гигантскую толпу зрителей, организаторы выставки даже были вынуждены обратиться за помощью к полиции[458].
В 1943 г. Кондон присоединился к Манхэттенскому проекту, но через полтора месяца подал в отставку из-за конфликтов по поводу безопасности с генералом Лесли Гровсом, военным руководителем проекта.
С августа 1943 г. по февраль 1945 г. Кондон работал консультантом в Беркли в рамках проекта по разделению урана-235 и урана-238. В 1944 г. был избран в Национальную академию наук. После войны Кондон приложил много усилий в борьбе за установление гражданского контроля над атомной энергией, выступил за международное сотрудничество учёных и вступил в «Американо-советское научное общество». В 1945 г. президент Трумэн назначил Кондона на пост директора Национального бюро стандартов США (ныне известного как NIST — National Institute of Standards and Technology, Национальный институт стандартов и технологий). В 1946 г. Кондон был избран президентом Американского физического общества.
Благонадёжность Кондона неоднократно подвергалась сомнениям со стороны властей. 29 мая 1946 г. директор ФБР Гувер написал президенту Трумэну письмо, в котором среди прочего заявил, что Кондон — «не кто иной, как шпионский агент под прикрытием»[459]. Среди тех, кто защищал Кондона от нападок, были Альберт Эйнштейн и Гарольд Юри. После того как в 1951 г. Кондону удалось доказать свою невиновность в ходе очередной процедуры проверки, он по собственной инициативе покинул правительство, чтобы стать руководителем отдела исследований и разработок компании Corning Glass Works. Спустя годы Карл Саган так пересказал рассказ Кондона об одной из встреч с комиссией по проверке лояльности. Один из членов комиссии выразил обеспокоенность: «Доктор Кондон, здесь говорится, что вы были в авангарде революционного движения в области физики под названием… квантовая механика. Это вызывает у нас опасения в том, что если вы были в авангарде одного революционного движения… то могли бы быть и на переднем крае другого»[460]. В частных разговорах Кондон формулировал