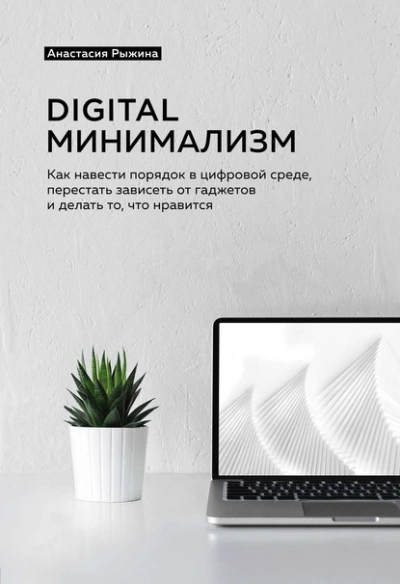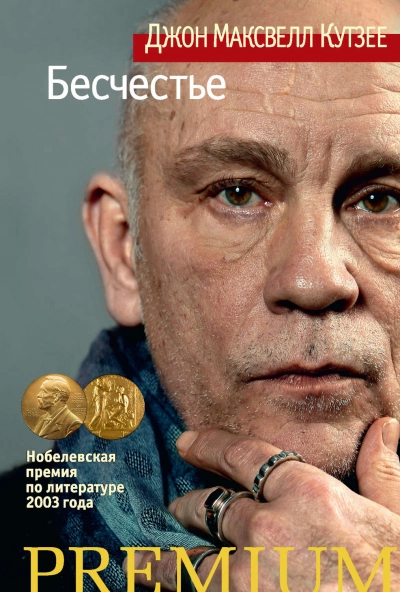Откупное дитя - Юля Тихая
Разбушевавшийся дед — частая ведьмина работа, я с таким уже десяток раз сталкивалась. Встревоженные, измученные недосыпом люди винят во всём то домового, то проклятие, то ещё какую нечисть, предлагают деньги и просят что угодно сделать, только прекратить это безобразие. А когда говоришь им, что непомянутый дед в доме у них буянят, деньги пытаются отобрать, мол, сами договоримся. Только однажды пришла ко мне женщина, которая сказала сразу: свёкор мой и при жизни был та ещё скотина, а как дедом стал, так и вовсе спасу от него нет. Выгоните его, госпожа ведьма, хоть куда!
Я и выгнала, конечно. Люди иногда говорят, нехорошо это, предков гнать из их же родного дома. Но всё-таки дом теперь принадлежит живым, и если они решили, что лучше не иметь никакого деда, чем вот такого, — так тому и быть.
На дорогах я чаще встречала злобных дедов, чем добрых. Не потому, что их больше, а потому, что про хороших дедов ведьме и рассказывать-то незачем. И всё равно на бревно, где ведовские деды между собой бранятся, я сперва долго смотрю издаля. Что за предок у Чигиря? Поможет он мне — или только пакостей наделает?
Ведовские деды — не совсем такие, как человеческие. Они и родня ведунам, и сами при жизни были ведуны или ведьмы, а значит — жили дорогой, не имея никакого родного дома. Они и после смерти продолжают ходить, где придётся, и только собираются иногда вместе на шабашах.
Сейчас на бревне вредных дедов — никак не меньше половины. Ни живые, ни нечисть к ним почти не подходят: не много удовольствия в том, чтобы быть с ног до головы облитым помоями! Так что сидят деды сами по себе и между собой собачатся.
— Ах ты кобель, — лютует одна грымза, нависая над низеньким рыжим дедком. — Всех девок перепортил в округе, и меня ещё бабам своим привёл повитухой! А я верила ему, ой дура была, ой верила! Ты у меня света белого невзвидишь, я тебе плешь прогрызу насквозь…
— Нехорошо ругаисся, — шамкает дряхлая бабка и вдруг с удивительной ловкостью иголкой в грымзу тыкает.
Иголка, как и обе старухи и дедок, полупрозрачная и легко проходит призрачное тело насквозь. Но грымза всё равно взвивается и принимается пуще прежнего на бабку ругаться.
— Милые бранятся — только тешатся, — мечтательно вздыхает другая бабуля, в платке и деревянных бусах.
— Кха, — поддакивает ей другая, та, что смолит больше всех.
Дед с длинной косой, на которого мне ячична указала, в эти глупые ссоры не вмешивается. Он сидит чуть в стороне и смотрит, как полудницы танцуют и других девок ловят, уговаривают плясать с ними. Вот одна вила соглашается, плясать ей с ними теперь до самого рассвета, ну да ей копыта стоптать не страшно.
Я почти решаюсь подойти, но тут меня за рукав снизу дёргают.
— Помоги мне, — хрипло просит матушкин раб.
И руки тянет ко мне с земли.
Он весь взопрел в своих крашеных одеждах и дурацкой шапочке. Лицо красное и потное, глаза навыкат, пальцы трясутся, а я всё равно на него кривлюсь: удумал тоже — украсть гримуар у ведьмы!
Слёзы катятся у мужика из глаз, он бормочет что-то себе под нос и смотрит на меня умоляюще.
— Помоги мне, — говорит он одними губами. — Помоги мне, милостивая госпожа…
— Ты в дом ведьмы залез? — сурово спрашиваю я.
И мужик кивает:
— Залез.
— Гримуар украсть хотел?
— Хотел.
— Нечистым судом судить тебя просил?
— Просил…
Я пожимаю плечами. Мне его, может, и жалко, но что я могу сделать против суда? Решение Матушки — довольно милостивое: служба у мужика тяжёлая, но подъёмная и не навсегда. Однажды Матушка рассмеётся и отпустит мужика на волю, а он, надо думать, никогда больше не возьмётся украсть хоть что-нибудь у ведьмы.
— Помоги мне, — молит мужик. — Помоги…
Но я только головой качаю и подхожу к деду с косой.
Тот смотрит и на меня как бы, но при этом будто сквозь. Лицо у него уставшее, серое, на лбу горькая складка. В руках дед вертит шнурочек, на который привязаны перья.
— Здравствуйте, — я кланяюсь. — Меня Нейчутка зовут, я вашему потомку, Чигирю, подруга. Я способ ищу сделать так, чтобы он из птицы обратно человеком стал. Может быть, вы мне подскажете, как быть?
Дед глядит сквозь меня и пальцами перья перебирает. Красивые перья, все разные, и стрижа, и овсянки, и перепелятника.
— Вы ведь многое знаете о дорогах, — льщу я, кулаки стискивая. — Вам могло ведь встречаться такое, что…
Дед смотрит на меня остро. Горькая морщина на лбу становится глубже, пальцы на перьях останавливаются.
Потом он пересаживается на бревне так, чтобы повернуться ко мне спиной.
— Вы наверняка ведь знаете, как можно…
— Прочь иди, глупая, — напускается на меня вдруг бабуля в бусах. — Не хочет он с тобой говорить!
— Ой, и девки нынче пошли! Ох и девки! И кланяется криво, и волосы гнездом у ней, поглядите-ка!
— Кха.
— Нехорошо ругаисся…
Кто-то кидает в меня недовязанный носок. Он пролетает насквозь, обдав холодом и запахом лука. Я поджимаю губы и отхожу в сторону, пока ведовские деды не придумали, как бы ловчее обидеть живую.
Может, и хорошо, что он не захотел со мной общаться. Это ведь Чигирь должен подойти, это ведь ему должно быть надо, а он только и знает, что валяться в своей «чёрной меланхолии» и из чужих чарок пить. А я всего этого делать — не должна! Я, может, плясать с полудницами хочу!
Но, если по правде, плясать мне совсем не хочется. Если и хочется чего, то, может быть, плакать.
— Помоги мне, — снова просит раб и встаёт передо мной на колени. — Помоги мне, а я скажу, что деду этому принести, чтобы он стал с тобой разговаривать. Помоги мне, откупное дитя.
✾ ✾ ✾
— Как я могу тебе верить?
Я знаю ответ, на самом-то деле. Верить ему я никак не могу. Он — вор и дурак, который гримуар у могущественной ведьмы украсть попробовал. Нет у него ни совести, ни понятия о чести, и цена