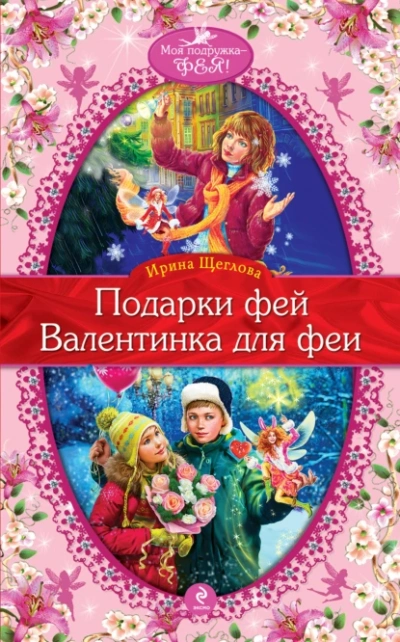История Спарты (период архаики и классики) - Лариса Гаврииловна Печатнова
615
Парамонов Б. По поводу Фаулза // Звезда. 1999. № 12. С. 220.
616
Hodkinson St. Social Order and the Conflict of Values in Classical Sparta // Chiron. Bd. 13. 1983. P. 248.
617
Эфор обратил внимание на то, что в отличие от критских всадников спартанские «всадники» никакого отношения к коннице не имели. Он объясняет это тем, что «должность всадников на Крите древнее, так как она сохранила там подлинное значение названия» (ap. Strab. X, p. 482).
618
Подробнее о спартанских всадниках см.: Андреев Ю. В. Спартанские «всадники» // ВДИ. 1969. № 4. С. 24–36. По мнению Ю. В. Андреева, полномочия спартанских всадников носили не только военный, но и политический характер. Он рассматривает их как орудие полицейского террора и слежки в руках спартанской олигархии. Именно в таком своем качестве всадники участвовали в операции против Кинадона (Xen. Hell. III, 3, 9). «Очевидно, — пишет Ю. В. Андреев, — использование членов корпуса в качестве полицейской силы для подавления разного рода волнений среди порабощенного и неполноправного населения и вообще всех антиправительственных выступлений было в Спарте в порядке вещей. Не исключено, что в число прямых обязанностей «всадников» входила также и знаменитая криптия» (Там же. С. 27).
619
История с оправданием Сфодрия темна и запутанна. Анализ источников по данной проблеме и комментарий к ним см.: Лурье С. Я. Комментарий // Ксенофонт. Греческая история. Л., 1935. С. 316–318 (к V, 4, 32).
620
В «Лакедемонской политии» Ксенофонта встречаются те же слова для обозначения трех младших возрастных групп спартиатов от 7 до 29 лет (2–4, 6 — pai’», paidivsko» kai; hJbw’n), что и в его «Греческой истории». Это, по-видимому, официальные технические термины для обозначения последовательных возрастных подразделений спартанской молодежи. Для Ксенофонта как знатока спартанских реалий характерно использование специфически спартанских технических терминов, не встречающихся у других современных ему греческих писателей. Так, он единственный употребляет такие термины, как «гипомейоны» или «малая экклесия».
621
«В то же время Ликург установил и своего рода позорное наказание для холостяков: их не пускали на гимнопедии, зимою, по приказу властей, они должны были нагими обойти вокруг площади, распевая песню, сочиненную им в укор… и, наконец, они были лишены тех почестей и уважения, какие молодежь оказывала старшим. Вот почему никто не осудил дерзости, которую пришлось выслушать даже такому прославленному человеку, как полководец Деркилид. Какой-то юноша не уступил ему места и сказал так: «Ты не родил сына, который бы в свое время уступил место мне»» (Plut. Lyc. 15, 1–3).
622
То, что именно словом «Гераклиды» очерчивался круг старинной спартанской аристократии, следует, в частности, из сообщения Плутарха о законотворческих планах Лисандра. Тот хотел расширить круг претендентов на престол за счет включения туда кроме Агиадов и Еврипонтидов представителей других семей, ведущих свой род от потомков Геракла (Lys. 24, 2–6).
623
По поводу гомосексуальных связей в среде спартиатов см., к примеру: Bethe E. Die dorische Knabenliebe — Ihre Ethik und ihre Ideale // RhM. Bd. 62, 1907. S. 438–475; Cartledge P. The Politics of Spartan Pederasty // PCPhS. 207. 1981. P. 17–36.
624
Fisher N. R. E. Drink, Hybris and the Promotion of Harmony in Classical Sparta // Classical Sparta: Techniques behind her Success / Ed. by A. Powell. London, 1989. P. 33.
625
В обществах военизированных, с сильно развитой половой сегрегацией массовость гомосексуальных связей является обычным явлением. Кроме Спарты такая практика засвидетельствована, например, для Крита (Ephor. ap. Strab. XI, р. 483). Плутарх причисляет спартанцев (наряду с беотийцами и критянями) к народам, наиболее склонным к педерастии (Mor. 761 c-d). В Спарте самые знаменитые пары, связанные подобного рода отношениями, — это, вероятно, Лисандр и Агесилай (ср.: Xen. Hell. III, 3, 3; Plut. Lys. 22, 10; Paus. III, 8, 10) и совершенно точно Архидам и Клеоним (Xen. Hell. V, 4, 25 и 33).
626
Hodkinson St. Social Order… P. 253.
627
О вкладе Спарты в военное дело см: Cartledge P. Hoplites and Heroes: Sparta’s Contribution to the Technique of Ancient Warfare // JHS. Vol. 97. 1977. P. 11–27.
628
В западной историографии не раз высказывалась гипотеза, что в середине V в. в Спарте произошла радикальная реорганизация армии. Но отсутствие прямых свидетельств заставляет усомниться в предлагаемой реконструкции, согласно которой в середине V в. было полностью отменено комплектование армии по родовому принципу. О предполагаемой военной реформе см.: Anderson J. K. Military Theory and Practice in the Age of Xenophon. Berkeley-Los-Angeles, 1970. P. 225 ff.; Hodkinson S. Social Order… P. 254 f.
629
О структуре и численном составе спартанской армии см. также: Thuc. V, 68; Xen. Lac. pol. 11.
630
Показательно и упорное стремление спартанских властей сохранить в неприкосновенности неудобные железные деньги, которые подходили только для внутреннего употребления, были абсолютно неконвертируемы и являлись одним из элементов «железного занавеса» (Polyb. VI, 49, 8).
631
Спарта была единственным городом в Греции, полностью лишенным каких-либо оборонительных укреплений. Возможно, это было сделано специально, чтобы постоянно тренировать у граждан чувство опасности и приучать их к мысли, что их город — это действительно военный лагерь. Представление о Спарте как военном лагере является общим местом в греческой литературе. См., например: Isocr. Archid. 81; Plat. Leg. II, 666 e.
632
Позволим себе в этой связи процитировать А. И. Зайцева: «Афиняне в V–IV вв. имели широчайшие права участия в решении политических вопросов и значительную степень личной свободы. В то же время полноправные спартанские граждане, по-видимому, оказывали серьезное влияние на политику государства, но почти не пользовались личной свободой. Наконец, афиняне эпохи принципата обладали еще большей личной свободой, чем во времена Перикла, но не имели никакой возможности участвовать в политических решениях» (Зайцев А. И. Культурный переворот в Древней Греции VIII–V вв. Л., 1985. С. 38).
633
Ксенофонт перечисляет весь круг репрессивных мер, которые призваны были сделать не только жизнь самого «убоявшегося», но и всех его родственников невыносимой: «В Лакедемоне любому гражданину было стыдно сесть за трапезу с «убоявшимся» или упражняться с