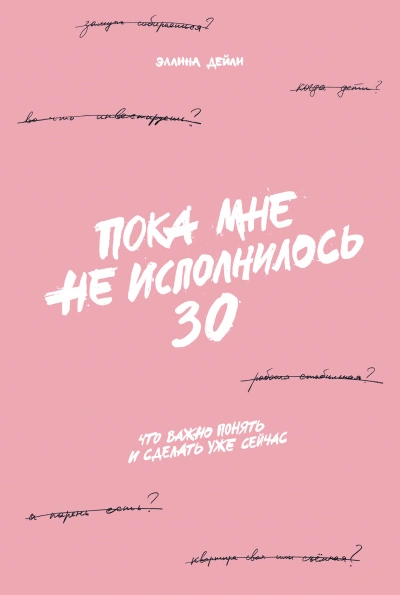Советская элита от Ленина до Горбачева. Центральный Комитет и его члены, 1917-1991 гг. - Эван Модсли
В то же время, похоже, что Сталин и его соратники сталкивались с определённым сопротивлением на своём пути. Если элита и не могла сделать многого, то она хотя бы выступала в роли тормоза при проведении наиболее радикальных политических инициатив, по крайней мере тех, что касались её непосредственно. Так, попытка ужесточить наказание для Бухарина и Рыкова, лидеров правой оппозиции, на закрытом декабрьском пленуме ЦК 1936 г. не увенчалась успехом. Даже решение, которое члены ЦК приняли по делу Бухарина и Рыкова на пленуме в феврале–марте 1937 г., может рассматриваться как компромиссное. Они были исключены из ЦК и партии, но их дело не передали в Военный трибунал, а перепоручили НКВД[215]. Конечно, сопротивление объединённой элиты могло быть преодолено, но его нельзя было игнорировать.
Элита ЦК, пытаясь защитить себя, не смогла перейти к осознанным действиям, не говоря уже о возможности заговора против Сталина. Тем не менее, как было показано в первой части данной главы, представители элиты имели между собой немало общего. На это обратил внимание на съезде партии в 1934 г. Николай Ежов, глава Мандатной комиссии и один из ключевых деятелей сталинской партийной машины. Говоря обо всей партии, Ежов отметил, что только 10% её членов вступили в её ряды до 1921 г. В тоже время среди делегатов съезда наблюдалась совершенно иная картина. По словам Ежова, за «проверенным слоем членов партии, прошедшим школу гражданской войны и подполья, остаётся руководящая роль»[216]. Как мы уже видели, этот «проверенные слой» ещё в большей степени доминировал среди меньшей группы — делегатов съезда, избранных в ЦК. Нет оснований предполагать, что Ежов, говоря о руководящей роли, прибегал к завуалированной критике. Сам Ежов вступил в партию в марте 1917 г. и принадлежал к проверенному слою. Через три года он возглавил НКВД и стал главным инструментом Сталина в проведении массовых репрессий. К тому моменту разобщённость ветеранов партии превратила их в лёгкую жертву.
Представители элиты, входившие в ЦК, были примерно одного возраста, происходили из императорской России, вместе прошли школу подпольной борьбы и, что следует отметить особо, гражданской войны. В последующие полтора десятилетия они занимали посты на всём пространстве советского континента. Это единство усиливалось как сознанием принадлежности к старой партийной гвардии, так и осознанием себя крохотным меньшинством среди враждебного или, в лучшем случае, неоднозначно относящегося к ним населения. Представители партийной элиты были связаны своего рода семейными узами, и основа этих уз — не сознательная неприязнь к Сталину, а жизненный опыт — события, которые всем им пришлось пережить. Это была матрица верности старых большевиков. Конечно, не следует переоценивать поступок Постышева, однако он, быть может, действительно не мог поверить в то, что Карпов — троцкист. Постышев, выступая в защиту Карпова, ссылался на других членов ЦК, которые когда-то занимали в Киеве руководящие посты и работали вместе с Карповым, — Варейкиса, Якира и Гринько[217]. На пленуме в феврале–марте 1937 г. сам Сталин сетовал (этот пассаж не вошёл в официальную публикацию отчёта о заседании пленума), что Серго Орджоникидзе ошибочно доверял члену ЦК В.В. Ломинадзе. Февральский пленум 1937 г. завершился выступлением Сталина, в котором он подчеркнул негативную сторону создания связей внутри элиты — её сплочения[218]. Сталин действительно боялся оппозиции — в этом смысле самым опасным ему казалось поколение старых большевиков. Они имели тесные личные связи и общее прошлое — опыт оппозиционной борьбы. Среди них могли скрываться «двуличные изменники» и оппозиционеры. Тесные узы, связывавшие старых большевиков, делали их политически подозрительными.
Общий жизненный опыт связал вместе две подгруппы, выделенные в первой части данной главы: революционную элиту (избиравшихся в ЦК в 1917–1922 гг.) и представителей нового призыва (впервые вошедших в ЦК после 1923 г.). Они разделили общую судьбу в годы Большого террора. Из 78 представителей революционной элиты 18 умерли естественной смертью до 1936 г. Из 60 оставшихся 43 (72%) погибли в 1936–1938 гг. и лишь 17 пережили эти годы. Ещё более показательна участь представителей нового призыва, которые предположительно отбирались самим Сталиным. В настоящий момент известны даты смерти 167 из 187 человек, принадлежавших к этой группе. В 1937 г. из указанных 167 человек были живы 150. Из них 117 (78%) погибли в результате репрессий. Таким образом, доля жертв в этой группе была выше, чем среди революционной элиты. (В действительности доля репрессированных представителей нового призыва, скорее всего, была ещё выше, так как 20 человек, дату смерти которых мы не знаем, вероятно, также стали жертвами репрессий.) Если вдуматься в эти цифры, то получится, что более двух третей представителей революционной элиты и нового призыва были уничтожены системой, которую они сами помогали создать.
Имелся и ещё один повод для сплочения элиты и её конфликта со Сталиным. И дело здесь не только в возрасте и общем жизненном опыте, причина крылась в общих с любой другой общественной или политической организацией тенденциях. Партийная элита уровня ЦК представляла собой самодостаточную бюрократию в прямом смысле этого слова. Историк Моше Левин убедительно объясняет эту сторону её деятельности. Элита — особенно после 1928–1932 гг. — стремилась к стабильности. Государственная система, по мнению её представителей, должна была развиваться так, чтобы отвечать интересам высших эшелонов бюрократии. Действительно, так и было в период