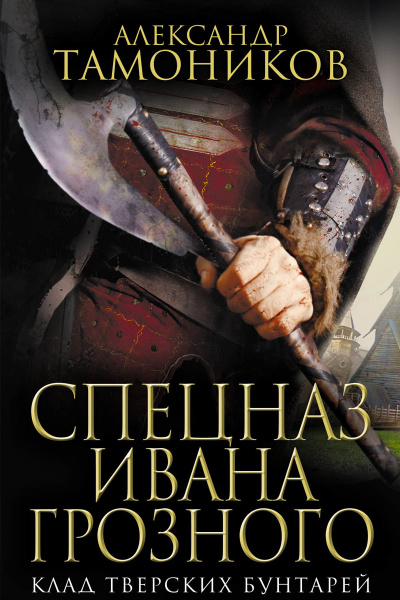Тайна сибирских орденов - Александр Антонович Петрушин
Шли мы лесом (запомнились березы). Вдруг раздался со стороны юрт выстрел, потом второй, третий... Следом пулеметная очередь. Тов. Иваненко приказал рассредоточиться по фронту, но сделать это по снегу было трудно, а бежать — невозможно. Будучи в возбужденном состоянии, я не заметил, как оказался на дне оврага, и обнаружил, что из подсумка высыпались патроны. Собрать их все мне не удалось, так как они провалились глубоко в снег. Из лога на противоположную сторону нас выбралось человек шесть, в том числе и тов. Иваненко.
Мы находились на окраине юрт, а из оград и из-за домов вспыхивали в предрассветной темноте огоньки — белые стреляли в нашу сторону.
Тов. Иваненко поднялся на ноги, взял свой карабин на плечо и побежал вперед нас по улице, крича: “Товарищи, за мной! Ура!” Мы устремились за ним. Тов. Иваненко выбежал на бугор и сразу упал. Я не понял, в чем дело, и тоже упал, думая, что так и нужно. Но, услыхав стон, понял, что он ранен. Я ничем не мог ему помочь, а в голове неотступно вертелась одна мысль — больше огня. Мне представлялось, что если белые узнают, что нас в юртах мало, то вернутся и всех нас перебьют. Поэтому я стрелял в темноту не целясь, а когда кончились патроны, то подполз к Иваненко, взял его карабин и продолжил стрельбу. Потом подоспело подкрепление. Белые отступили.
Я бегал по дворам, искал лошадь, чтобы увезти раненого политкома. Его поместили в наш временный госпиталь в М. Атлыме. Кроме него там лечились пять красноармейцев с обмороженными ногами. Убитых в этом бою не было. Карабин тов. Иваненко остался у меня, с ним я уехал на польский фрот.
В юртах Новеньких наш взвод находился несколько часов, а потом выехал в погоню за белыми. Кондинское они оставили без боя. Наш путь лежал на Березов. Тогда у нас случился печальный случай. Первому и второму взводам было приказано окружить белых в одной деревне (название не помню) и уничтожить. Наш взвод, поставив подводы, тихо подошел к окраине деревни и залег. Мы заметили, что на противоположной стороне между деревьями перебегают вооруженные люди. Предположили, что это белые. От них в нашу сторону последовал выстрел — завязалась перестрелка.
Вскоре, когда стало светлее, мы узнали в стрелявших в нас латышей из первого взвода. Стали кричать друг другу и выяснили, что они тоже приняли нас за белых. Но по ошибке один латыш из первого взвода был убит, его похоронили в Березове. Командир отряда тов. Лепехин расстроился этим случаем и отстранил командира первого взвода от должности».
В исторических исследованиях 50—60-х годов прошлого века отход колчаковцев в Березово представлен как цепь полных драматизма кровопролитных сражений. Но не все принимали такую трактовку событий. Тот же Зуев не согласился с утверждениями И. А. Иванова в книге «Борьба за установление Советской власти на Обском Севере», изданной в Ханты-Мансийске в 1957 году. Иванов так описал бой за юрты Новенькие: «Белогвардейцы в яру из окопов почти в упор вели пулеметный и ружейный огонь. Несмотря на пасмурную ночь, один за другим падали красноармейцы, цепь залегла. Иваненко, не изменяя своего плана, подал команду готовиться к атаке, но в этот момент его голос оборвался, разрывная пуля выше голени раздробила ему ногу. Правее его стоял красноармеец».
Автор книги ссылался на воспоминания партизана Скрипунова, в отношении которых Зуев возразил: «В бою за юрты Новенькие я был все время с тов. Иваненко, который командовал нашим вторым взводом. Я утверждаю: ни один из красноармейцев не погиб. Ранен был только политком тов. Иваненко. Человек пять отморозили ноги и лечились вместе с ним в М. Атлыме. Никаких окопов ни у белых, ни у нас не было...»
Эти и другие замечания и возражения не воспринимались. История Гражданской войны на задворках Отечества излагалась по одному идеологическому трафарету, без учета местных особенностей.
В повествованиях участников тех событий на Тобольском Севере главным злодеем назывался некий Турков. Лопарев считал его «сыном тобольского купца, палачом, начальником карательного отряда, совершившего в декабре 1918 года поход из Тобольска в Саранпауль и разгромившего там красный гарнизон».
Лопарев и поверившие ему историки, включая осторожного в оценках прошлого югорского писателя Николая Коняева, думали, что Турков был в марте 1920 года расстрелян Тюменской Губчека.
Ошибочные или сознательные утверждения о злодеяниях местных белогвардейцев не соответствуют действительности. Сохранившиеся в архиве Регионального управления ФСБ по Тюменской области показания Туркова, Витвинова, Булатникова и Кислицкого дают возможность по-другому представить этих людей и показать их роль в бескровном завершении драматических событий начала 1920 года в Березовском уезде.
Тогда Александру Михайловичу Туркову, уроженцу купеческой семьи из Тобольска, окончившему там высшее начальное училище, женатому и имевшему ребенка, исполнилось 22 года.
На допросе 15 января 1920 года он показал: «При Временном Сибирском правительстве я служил в Тюмени в 18-м Сибирском степном кадровом полку по мобилизации до декабря 1918 года. Потом в Тюмени сформировали Северный отряд, в который меня зачислили младшим офицером. С этим отрядом я отправился в Саранпауль — Ляпино Березовского уезда. Потом находился на отдыхе в Березове, откуда командировался в Тобольск для закупки продовольствия Северному отряду. Там получил по болезни двухмесячный отпуск. После открытия навигации 1919 года комендант Тобольска штабс-капитан Киселев отправил меня обратно в Саранпауль, но отряд к тому времени выбыл в Тобольск. Поэтому я был назначен комендантом г. Березова. В этой должности находился до 10 декабря 1919 года, после чего отбыл в с. Кондинское по приказанию начальника Березовского гарнизона поручика Витвинова. Столкновений с красными войсками у меня за последние месяцы не было ни разу.
Так как связь с Колчаком прервалась еще с октября 1919 года, мы находились в подчинении Северного архангельского правительства. Моим