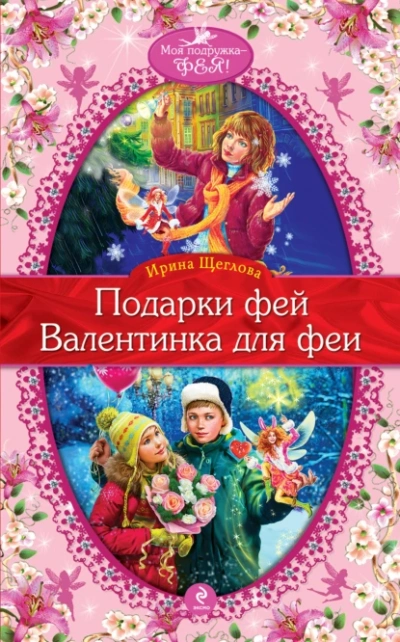История Спарты (период архаики и классики) - Лариса Гаврииловна Печатнова
Платон, описывая свое идеальное государство столь похожим на Спарту, упоминает о наследственных клерах, не подлежащих разделу, и называет их число — 5040 (Leg. V, 737 c; XI, 923 c). Из контекста понятно, что отнюдь не всю землю в своем «парадизе» Платон считал разделенной на неделимые «отеческие участки». Картина, нарисованная Платоном, скорее всего, была отражением реальной системы спартанского землевладения: ведь Платон при создании своей идеальной политической конструкции за основу взял именно Спарту[599].
Наряду с системой равных клеров, гарантирующих каждому спартиату сохранение его гражданского статуса, в Спарте, возможно, существовали земли, которые еще до закона Эпитадея могли быть предметом купли-продажи[600]. Накопление дополнительной земельной собственности привело к серьезному неравенству в богатстве среди спартиатов, чему есть многочисленные примеры (Her. VI, 61, 3; VII, 134, 2; Thuc. I, 6, 4; Xen. Lac. pol. 5, 3; 6, 4; Hell. VI, 4, 10–11; Arist. Pol. II, 6, 10, 1270 a 18).
Государство как могло сохраняло и отстаивало принцип полной неотчуждаемости земли, принцип, при котором земля всегда должна была оставаться в одном и том же роде, не дробясь даже между наследниками. Уже В. Г. Васильевский обратил внимание на эту особенность спартанского земельного кодекса, весь дух которого требовал неподвижности землевладения[601].
Спартанское законодательство не допускало деления клеров между наследниками. Наследником земли, очевидно, считался только старший сын. Содержание младших сыновей, скорее всего, было обязанностью сначала отца, а после его смерти — старшего брата. Жена старшего брата по необходимости становилась также предметом совместного пользования (Polyb. XII, 6, 8)[602]. Единственным механизмом получения клера для младших сыновей было усыновление их семьями, где не было наследников-мужчин. Условием подобного усыновления могла быть женитьба на дочери владельца клера[603].
Недостаток источников, касающихся спартанского землевладения, в какой-то мере восполняет сравнительный материал. Древние авторы приводят целый ряд примеров того, как государство вмешивалось в права собственности своих граждан с тем, чтобы сохранить существующие аграрные отношения. Так, в досолоновых Афинах «не было позволено делать завещания; деньги и дом умершего должны были оставаться в его роде» (Plut. Sol. 21). Полибий, осуждающий распущенные нравы современных ему беотян, хвалит их старинные законы, ограничивающие права наследования в пользу рода (XX, 6, 5). По свидетельству Аристотеля, в современных ему Локрах все еще сохранялись ограничения на продажу недвижимости (Pol. II, 4, 4, 1266 b 18–22). Не раз уже обращалось внимание на то, что Платон в своих проектах идеального государственного устройства во многом копировал Спарту. Как отмечает С. Я. Лурье, в обоих проектах, «и в «Государстве» и в «Законах» неуклонно проводится принцип полной неотчуждаемости земли, переходящей из поколения к поколению по принципам родового старшинства»[604]. Причем в «Законах» Платон даже называет число клеров, которое должно было оставаться неизменным — 5040.
В большинстве обществ, чья экономика зависит прежде всего от земледелия, распределение земли и права, связанные с ее удержанием и наследованием, оказывают фундаментальное влияние на характер социальной системы. То, что спартанская система землевладения, созданная Ликургом, разрегулировалась очень рано, видно из целого ряда свидетельств. Так, Аристотель говорит о том, что в Спарте к концу VIII в. сложилась чреватая гражданскими смутами ситуация из-за дела парфениев и требования передела земли (Pol. V, 6, 1–2, 1306 b 29–31; 35–40; 1307 a 1–2). Об этом же свидетельствуют и данные демографии. Количество полноправных граждан в Спарте постоянно уменьшалось. Аристотель в «Политике» не только отметил факт олигантропии, имея в виду именно недостаток граждан, а не населения вообще, но и правильно интерпретировал его как результат спартанской системы землевладения и наследования (II, 6, 10–12, 1270 а 15–34).
За фасадом декларативного равенства тщательно скрывалось фактическое экономическое неравенство. О наличии в Спарте богатых людей свидетельствует увлечение спартанцев коневодством. Судя по данным просопографии, большинство спартанцев, участвующих в конных агонах в Олимпии, были представителями одних и тех же знатных семей (Paus. VI, 1, 7 — Анаксандр, олимпионик 428 г. и его дед, также олимпионик; VI, 2, 1–2 — Аркесилай и его сын Лихас; VI, 1, 7; 12, 9; X, 34 — Поликл с сыновьями). Известно, что сестра Агесилая II Киниска выставляла четверку скаковых лошадей на состязании в Олимпии (Xen. Ages. 9, 6)[605]. Таким образом, для богатых и знатных спартанцев участие в конных ристалищах стало чем-то вроде семейной традиции. Согласно Геродоту, содержание лошадей — неизменный знак большого богатства (VI, 125). Хотя конкретные данные о богатстве отдельных спартиатов относятся уже к V в., но экономическое равенство, конечно, было фикцией и раньше.
Хотя с внешней стороны все спартиаты выступали как «равные», подлинного равенства среди них не было. Ведь одни могли приобретать коней для участия в Олимпийских играх, а другие с трудом вносили необходимый взнос в сисситии, чтобы сохранить свои гражданские права и привилегии[606]. В своем критическом обзоре спартанского строя Аристотель справедливо отметил, что обязательность равного взноса в сисситии при кажущемся его демократизме была собственно недемократической мерой, ибо она ложилась тяжким бременем на бедных, не особенно отягощая при этом богатых. «Не могут считаться правильными и те законоположения, которые были введены при установлении сисситий… Средства на устройство их должно давать скорее государство, как это имеет место на Крите.
У лакедемонян же каждый обязан делать взносы несмотря на то, что некоторые по причине крайней бедности не в состоянии нести такие издержки, так что получается результат, противоположный намерению законодателя» (Arist. Pol. II, 6, 20–21, 1271 а 26–31). Это замечание Аристотеля свидетельствует о глубоком понимании им социальной сущности Спартанского государства: там, где правовое равенство зависит от равенства экономического, с нарушением последнего дает трещину и вся социальная система.
Законодательство Ликурга утвердило равенство граждан перед законом, а наделение клерами сделало их экономически свободными. Но сохранение этой системы было бы невозможно без жесткой регламентации общественной и личной жизни граждан. При огромной количественной диспропорции спартиатов и илотов Спарта, по замечанию