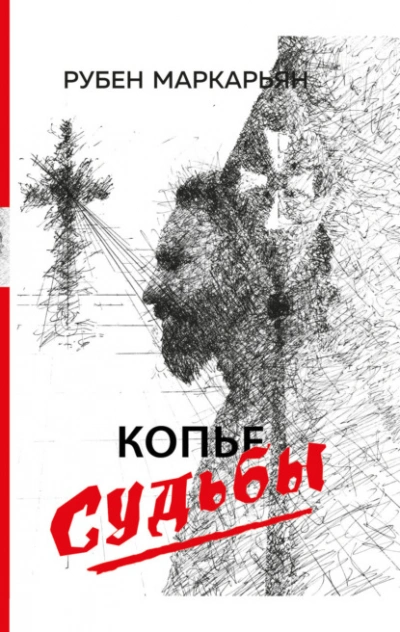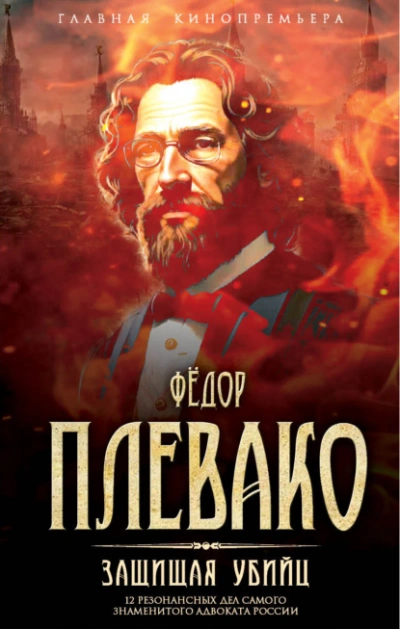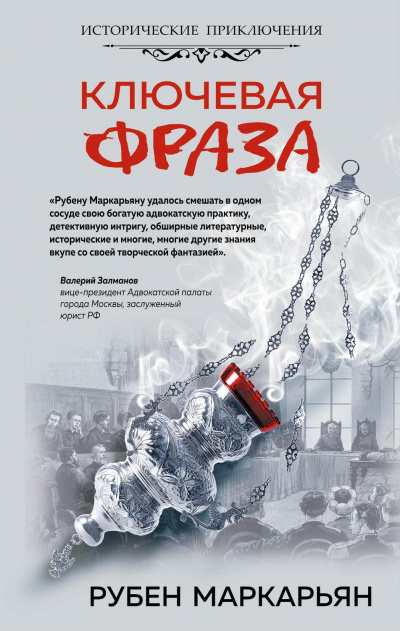Суд присяжных. Особенности процесса и секреты успешного выступления в прениях - Рубен Валерьевич Маркарьян
«Если оратор знает, что выражаемая им мысль должна показаться справедливой, он может с некоторым лицемерием начать словами: я не уверен, не кажется ли вам и т. п. Это хороший риторический прием», – пишет П. Сергеич, и я с ним соглашусь на сто процентов. Это как будто сказать: «Вы будете выглядеть дураком, если этого не увидите». А кто хочет показаться дураком или слепым?
Это не относится к окончанию речи, категорически нельзя заканчивать речь словами: я не знаю, какое вы вынесете решение… Раз не знаешь, значит, сам не убежден в своей правоте. Присяжные вынесут только то решение, которое им озвучил прокурор или адвокат. Другого они вынести не могут. И если оратор не знает, какое, то зачем он вообще выходил и что-то говорил?
2.4. О точности
«Точность обязательна при передаче чужих слов; нельзя изменять данных предварительного и судебного следствия», – говорит П. Сергеич.
Дело в том, что присяжные – это люди, которые могут путать имена, фамилии, названия местности или места работы обвиняемого или свидетелей. Особенно если фамилии похожи или сложные. Присяжные не изучали внимательно материалы дела, а присяжные телепроекта, о которых я говорю, вообще все воспринимают на слух в течение трехчасовой съемки. Они могут не помнить фамилию свидетеля, который говорил что-то в вашу пользу, в пользу защиты. И если окажется, что вы вышли к ним с речью и намереваетесь сказать что-то вроде: «Мы с вами, дамы и господа, слышали показания свидетеля… эээ… не помню его фамилию, но он сказал вот что.», то учтите: так нельзя говорить, это – testimonium paupertatis (свидетельство о бедности).
Или вот случай из практики настоящего судебного процесса. Следователь, выйдя в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей мэра одного из городов, сказал в обоснование своей позиции: «Дело очень сложное, по нему назначено порядка семнадцати экспертиз, их результатов пока нет». И естественно, сразу последовал вопрос от адвоката следователю: «А „порядка семнадцати" – это сколько? Вы ведете дело, Вы не помните, сколько точно назначено экспертиз?»
Если бы подобная сцена разыгралась в суде присяжных, то присяжные, безусловно, отметили бы для себя некомпетентность следствия. А фразу «Да что это за следствие, топорное такое.» я слышал десятки раз в исполнении присяжных при обсуждении вердикта. Так что адвокату при ведении процесса следует придерживаться точных формулировок самому и следить за неточностями в речи оппонента. Тем более адвокату проще, он может услышать ошибки прокурора, так как обвинитель в прениях выступает раньше, и грех эти ошибки не использовать в своем выступлении.
Например, я как-то говорил в прениях: «Если бы государственный обвинитель был уверен в своей правоте, он бы, конечно, не позволил назвать подсудимого Сидоренкова – Сидоркиным. Но для прокурора нет разницы, так как задача прокурора не искать истину, а поддерживать обвинение. Вынесете ли вы обвинительный вердикт в отношении Сидоркина или Сидорова, для прокурора не имеет значения, главное, что подсудимый виновен».
Присяжные – не конвейер по вынесению обвинительных приговоров, очень многие относятся к своей роли в процессе с гордостью и чувством гражданской ответственности за судьбу человека. Поэтому, услышав о бездушии обвинения, они могут разглядеть в подсудимом человека, а не статистическую обвиняемую единицу. Тогда ошибка прокурора в фамилии может иметь существенное значение.
2.5. Ненужные мысли
«Сорные мысли несравненно хуже сорных слов. Расплывчатые выражения, вставные предложения, ненужные синонимы составляют большой недостаток, но с этим легче примириться, чем с нагромождением ненужных мыслей, с рассуждениями о пустяках или о вещах, для каждого понятных».
В этом П. Сергеич прав, как всегда, но сегодня, спустя сто лет, следует особо подчеркнуть: не говорите очевидных вещей, которые и так понятны. Журналистов учат в вузе, как писать статьи, чтобы читателю не было скучно. Читатель должен иметь возможность включать фантазию, иначе читать перестанет. Например, если написать: «Кувалда упала на стеклянную столешницу», то необязательно добавлять, что та «разлетелась вдребезги». Так и в речи перед присяжными.
Если, например, вы пытаетесь уверить присяжных в том, что подсудимый не поджигал квартиру умышленно, а сделал это нечаянно, то не стоит говорить: «Мой подзащитный поставил включенный утюг на гладильную доску, и от горячего утюга загорелась обивка, потом пламя перекинулось на шторы, и все заполыхало и в огне, и дыму погибла женщина». Проще сказать: «Он поставил утюг на гладильную доску и забыл про него. А этот утюг сам по себе не выключается, как оказалось, старая модель. Вот и случилось то, что и должно было случиться неминуемо».
Присяжные сами представят картину, как загорается обивка гладильной доски, как пламя перебрасывается на шторы, как гибнет женщина, но запомнят из ваших слов только одно – виноват утюг, а человек, забывший его выключить, никого убивать не хотел. Просто растяпа, который должен ответить по статье «причинение смерти по неосторожности». Но не за поджог и убийство с особой жестокостью.
Сергееич говорит: «Берите примеры из литературы, берите их сколько угодно, если они нужны; но никогда не говорите, что взяли их из книги. Не называйте ни Толстого, ни Достоевского, говорите от себя».
Не соглашусь сегодня с этим тезисом. Наверное, сейчас, когда Достоевского проходят в школах и присяжные его читали, не сослаться на первоисточник – это выдать чужую мысль за свою. И это может вам навредить. А если сказать: «Уважаемые дамы и господа, помните из школьной программы, Толстой говорил…», вы покажете свою осведомленность и намекнете, что присяжные, как и вы, хорошо учились в школе, даже если это не так. Только не увлекайтесь цитатами, вот тут вы станете зубрилой-отличником, а их мало кто в школе любил.
Совет не ссылаться на автора может быть применим к анекдоту. Не важно, что у каждого анекдота есть автор, какой-нибудь Жванецкий, или Горин, или ваш сосед по даче. Анекдот – это особый жанр, не надо говорить, кто вам его рассказал.
Некоторые мои коллеги в настоящем суде присяжных читают стихи. Я никогда не читал стихи перед присяжными. И не советую этого делать.
П. Сергеич пишет: «Лучший пушкинский стих есть неуместная роскошь в суровых словах прокурора, как и в полной надежд и сомнений страстной речи защитника: нельзя мешать жемчуг с желчью и кровью… Но ведь у Кони, у Андреевского, кажется, нет ни одной речи без стихов или, по крайней мере, без выражений, взятых в стихотворениях. Да, но, во-первых, им это можно, а нам с вами нельзя; а во-вторых, возьмите заключение Андреевского по делу Афанасьевой: