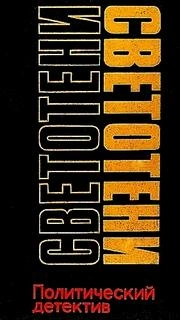Светотени - Сергей Васильевич Гук
Нарушал закон, запрещающий маскироваться во время демонстраций? А кто докажет? Есть снимки? А где видно, что это он? Экспертиза? Плевать он хотел на такую экспертизу, для суда это все равно не доказательство. Швырял камнями в полицейских во время демонстрации? Клевета, кто подтвердит? Если бы это было так, то почему его не арестовали сразу? Участие в организации помощи политзаключенным? Это официально зарегистрированная организация, действует легально. Ах, вот оно что, несколько человек из числа ее членов стали террористами? А если кто-нибудь в семье господина следователя станет террористом, то что же, по его логике, всю семью записывать в террористы?
Короче, не на того они нарвались. И судья оправдал его «за недостаточностью улик», припаяв, правда, четыре месяца «за нарушение общественного порядка и сопротивление полиции» — те самые четыре месяца, которые он успел отсидеть в предварилке. То на то и вышло.
Всему на свете однажды приходит конец, закончится когда-нибудь и их заточение в этом чертовом посольстве. Или они (вот только как с Философом быть?) очутится на свободе, или… О втором «или» Щербатый предпочитал не думать. Его принцип был прост: придет беда, тогда и горевать будем, а заранее какой смысл травить себе душу?
Щербатым его прозвали давно из-за нехватки трех верхних зубов справа — результат удара хоккейной клюшкой в лицо. Был в его жизни и такой период, давно, правда, еще в школе, когда он всерьез подумывал, не стать ли ему профессиональным хоккеистом, и каждый вечер ходил на тренировки в местный клуб. Вставлять зубы он не стал — считал, что вместе со шрамом это делает его оригинальным, но главная причина была в том, что он панически боялся «зубодеров» — от тоненького визга сверла обмирало сердце и прошибал пот.
Надо будет хорошенько обдумать, чем объяснить свое долгое отсутствие дома, мелькнуло в голове у Щербатого, размышлявшего, в какую страну они полетят и как все будет дальше. Назад сразу не вернешься, на границе их будут ждать с нетерпением. Но и они не дураки. Лично он, Щербатый, раньше чем через полгода в свое родное отечество нос совать не намерен. А там — как знать, может случиться, что добровольный карантин растянется и на год, поживем — увидим. Для жилья надо выбрать забытую богом и людьми страну. Этакий экзотический уголок, где не успели свить гнездо филиалы известнейших фирм с неоновыми, горящими по ночам вывесками всяких «Сименсов», «Филипсов», «Сони»… И где, само собой, нет Интерпола, который в такие страны проникает вслед за концернами, как в прежние времена солдаты шли по следам миссионеров. Поселиться в таком заповедном гогеновском местечке, и можно годик пожить растительной жизнью: удить рыбу, плевать в потолок в какой-нибудь деревянной развалюхе, слушать по транзистору музыку и последние известия, шляться по окрестностям, загорать, свести дружбу с туземцами и временами устраивать себе «разгрузочные дни», то есть напиваться до поросячьего визга. И, разумеется, отсыпаться.
Полиция начнет искать его — это ясно. Кинутся перво-наперво к квартирной хозяйке («Съехал». — «Куда?» — «Не сказал»), навестят его приятелей и знакомых по университету, но и от них ничего не узнают. Преподаватели наверняка вздохнут с облегчением, узнав, что он смылся, потому что крови он им попортил за эти годы немало. Мог, например, сесть за первый стол в аудитории, с сосредоточенно-идиотским выражением лица смотреть в упор на преподавателя и на любую его фразу согласно кивать головой. Самые стойкие, с железными нервами, больше десяти минут не выдерживали, а приятели, набившиеся в комнату, буквально завывали от хохота. Мог позволить себе, напялив на плечи украденную ректорскую мантию, въехать в лекционный зал на трехколесном велосипеде. Неприличными вопросами вгонять в краску женщин-профессоров. В разгар какого-нибудь семинара упасть на пол и притвориться, что потерял сознание. Подбить таких же, как и он сам, отпетых, бойкотировать лекции какого-нибудь чересчур верноподданного профессора. Забросать яйцами и гнилыми помидорами ректора, пытающегося уговорить студентов прекратить бойкот и вернуться к занятиям. И многое другое делал, благодаря чему и прилипла к нему устойчивая репутация клоуна. Был в этом и свой минус, поскольку, где бы он отныне ни появлялся, все ждали, что он на этот раз выкинет, и — реноме есть реноме — приходилось всегда что-нибудь изобретать.
Однажды во время общеуниверситетской забастовки его арестовала полиция: местная прокуратура нашла, что в своих выходках он зашел слишком далеко. А дело было так. Щербатый сочинил листовку, размножил ее на ксероксе и разбросал в университетском вестибюле (внизу листовки, там, где должен значиться «ответственный за выпуск», он вместо своей фамилии поместил фото сидящего на горшке младенца). Если наши обыватели-профессора, писал он, толкуют о духовных и моральных ценностях свободного мира и не находят слов, чтобы осудить преступления империализма во Вьетнаме, Чили, Южной Африке, Сальвадоре или Ливане, где сжигают напалмом убогие крестьянские хижины вместе с женщинами, детьми и стариками, где убивают, пытают и бросают в концлагеря, то неплохо было бы, чтобы краснобаи на себе испытали хотя бы частичку того, что там происходит. Славно было бы, например, если бы в один прекрасный день запылали их дорогие особняки. Или хотя бы кто-то оставил тлеющую сигарету в примерочной кабинке одного из тех дорогих магазинов, где отовариваются эти тузы вместе со своими дорого и модно одетыми женами.
Зал суда был набит студентами, и Щербатый, чувствуя поддержку своих, устроил им неплохой спектакль. На требование судьи подняться с места он ответил, пожав плечами: «Что ж, если это пойдет на пользу судопроизводству…», отчего зал взорвался хохотом. Защищался он остроумно. На обвинение прокурора — подстрекательство к поджогу — ответил, что ни одному нормальному человеку не пришло в голову рассматривать его сатиру как подстрекательство, включая и господина прокурора, который, получив листовку, не побежал ведь поджигать магазины, а сел строчить обвинительное заключение. При этом Щербатый не забывал идиотски ухмыляться и корчить рожи. Выведенный из себя обвинитель потребовал подвергнуть Щербатого психиатрической экспертизе, на что тот немедленно изъявил свое согласие при условии, что и господин прокурор, и господин судья также будут подвергнуты аналогичной экспертизе. После чего председательствующему пришлось удалять публику из зала за нарушение тишины и общественного порядка, а Щербатому вкатили шесть месяцев за неуважение к суду.
В тюрьме он свел знакомство с Длинным, который тоже, как и он, оказался «жертвой классовой юстиции» — термин, модный в те годы среди студенчества. Щербатому к тому времени оставалось сидеть ровно месяц, а у Длинного все было впереди, таскали его на допросы почти ежедневно. Вернувшись, он отводил душу: костерил всех в