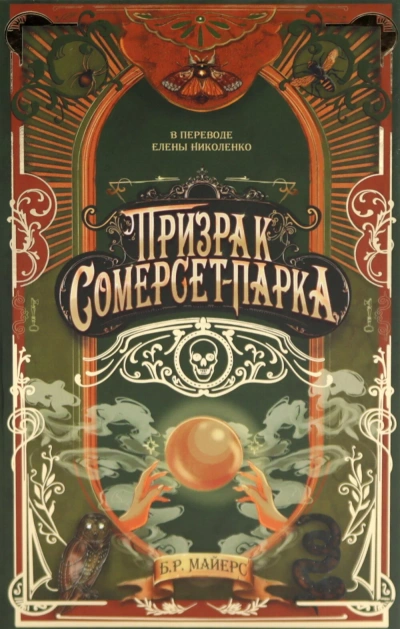Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко
В 1917 году объявили конкурс на премию имени Рябушкина. Василий выиграл конкурс и получил премию. Его работа называлась «Путешествие на остров Цитеры». В это время он увлекался Пуссеном, Буше, Ватто, поэтому персонажи, написанные с учеников и учениц Училища живописи, изображены на картине в костюмах XVIII века. Работа восхитила Константина Коровина, и он купил ее за тысячу рублей золотом (в то время это были огромные деньги). Когда Коровин уезжал из России навсегда, он вернул картину ее автору. Сейчас она хранится в Государственной Третьяковской галерее.
После столь очевидного успеха Василий еще более увлекся изучением техники живописи, особенно натюрморта Снейдерса и «малых голландцев». Чтобы глубже их понять, он начинает учиться реставрации, и однажды, когда Константин Коровин поставил ученикам пышный натюрморт – розы в золотой вазе – в духе Сапунова, Василий написал его так здорово, что учитель только развел руками.
Я уже писала, что в дни летних каникул 1916 года Нерода пригласил Василия Хвостенко и Андрея Худякова к себе на родину в Чернигов, небольшой городок на Украине, расположенный на берегу Десны, утопающий в зелени, с чудесной древней архитектурой. Жили очень весело. У Нероды имелась моторная лодка, на которой они часто уезжали далеко от города купаться и загорать.
Обычно вечерами все собирались за самоваром: молодежь спорила об искусстве, пели русские песни, романсы под аккомпанемент Ильи Саца, рисовали. С семьей Сац Василий часто ходил в усадьбу Савичей. Это было одно из лучших имений на Украине. Там он написал замечательный портрет Кати Савич.
Василий, Андрей и Георгий устроили в каретном сарае мастерскую. Находили разнообразные модели, постоянно рисовали и писали с натуры. А чтобы сарай стал более уютным, Василий написал на стене панно, примерно два метра на три, – «Садко». На берегу у сказочного города стоит Садко, а по морю плывут корабли с цветными парусами. В этой мастерской Василий написал портрет пианистки Елизаветы Эйзлер.
Летом 1917 года неразлучная троица поехала в Курскую губернию, в деревню Щигры (в настоящее время город Щигры, ж.д. станция) – имение Михайловой, родственницы художника Поленова. Любимым занятием стало катание на лошадях по степи – устраивали скачки наперегонки. Вечерами подшучивали над крестьянами. Василий с Неродой залезали на стог сена, там раздевались и вставали против света, изображая античные статуи. Шедшие с покоса крестьяне в первое время пугались, а потом пожаловались на «безобразие», которое устраивают приезжие художники. Так заканчивались годы юности и приходила зрелость.
Павел Корин
Недавно мне на глаза попалась книга С. Разгонова «Высота, жизнь и дела Павла Корина», изданная «Советским художником» в 1978 году. На обложке написано: «Биография Павла Корина не богата внешними событиями. Подлинная его биография – это внутренняя духовная жизнь, полная драматизма, поисков и утрат, надежд и разочарований…»
В те годы в искусствоведческой литературе существовал определенный штамп, по которому писались почти все монографии. В биографиях Корина написано, как его угнетали и издевались, когда он работал в какой-то иконописной мастерской, находящейся на Рогожской заставе, где был как бы «концерн» по иконописному делу. Как он уехал и каким-то непонятным образом очутился у художника Степанова. Как он якобы спасал гипсы после революции из Училища живописи, ваяния и зодчества… И многое, многое другое. А вот после революции, когда таланты стали расцветать благодаря коммунистической партии и правительству, талант Корина расцвел и получил признание. И мне захотелось рассказать правду об этом человеке, русском самородке, доброжелательном, умном художнике, сумевшем сохранить себя и свое творчество в страшное для России время. Он мог бы многое создать за годы гонений, но он как бы отрекся от искусства и занялся скучным делом – реставрацией. Долгие годы его фамилия вообще не упоминалась в художественной среде, он как бы «умер при жизни». Только с приходом к власти Хрущева его фамилия вдруг возникла как Феникс из пепла.
К сожалению, биография художника обросла выдуманными фактами, о чем свидетельствует и книга С. Разгонова. А Павел Дмитриевич Корин достоин того, чтобы мир художников, ценители и любители его живописи узнали о нем правду почти из первых рук.
Приходя к нам на Масловку, дядя Саша всегда брал с собой Корина.
В 1936 и 1937 годах дядя Саша стал почему-то приезжать без звонка, и они с папой сразу запирались в большой комнате. О чем они говорили, я не знаю, но вскоре появлялся Корин. Они садились втроем на диван и тихо разговаривали; иногда беседы длились по нескольку часов. Мама им не мешала, но после ухода Корина и дяди Саши мама с папой опять садились на диван, закрывались одеялом и опять о чем-то говорили.
Сейчас я понимаю, что дядя Саша приезжал не просто по делам Верховного Совета или навестить моих родителей, а для того, чтобы отвести нависшую над Кориным смертельную опасность. Он делал все возможное, чтобы спасти своего любимого друга от тюрьмы.
Павел Корин не входил ни в какие группировки, он плохо сходился с людьми, у него не было детей, ведь он женился на монашке, с которой познакомился в Марфо-Мариинской обители, когда работал учеником-подмастерьем у Нестерова.
Когда двоюродный брат моего деда стал приближенным великого князя Константина Романова, мой дедушка Вениамин Степанович попросил брата устроить Павла учеником к Михаилу Васильевичу Нестерову. Дедушка считал Нестерова выдающимся мастером и полагал, что Павла ждет у него блестящее будущее. По протекции Константина Романова и великой княгини Елизаветы Федоровны Павла Корина взяли делать копии с эскизов росписи Марфо-Мариинской обители. Нестерову его работа понравилась, и он взял его в подмастерья. Вот так зародилась дружба, которую Корин пронес через всю жизнь. Их с Нестеровым взгляды на искусство оказались чрезвычайно близкими. И Нестеров искренне любил Корина.
«Исход православия из Кремля» Павла Корина
Именно так, а не «Реквием» называлась эта исчезнувшая картина.
После революции у Павла Корина внешне все выглядело вроде бы прекрасно; он имел огромную мастерскую, которую ему помогли сделать Славинский, Горький и Бухарин. Он почти закончил в ней огромную картину «Исход православия из Кремля», которую начал писать в 1922 году. Когда стали закрываться церкви и начались гонения на священников, Корин, не входя ни в какие художественные группировки, в одиночку решил запечатлеть на холсте национальную трагедию России. «Картина станет обличительным документом расправы над церковью и духовенством», – говорил он моему отцу, когда советовался с ним по поводу персонажей картины. И он писал и писал с натуры образы русских православных монахов, монахинь, священников, ту жизнь, которую хорошо знал.
Он хотел выставить картину на выставке АХРРа, но почему-то не сделал этого, а написал вдруг огромный портрет