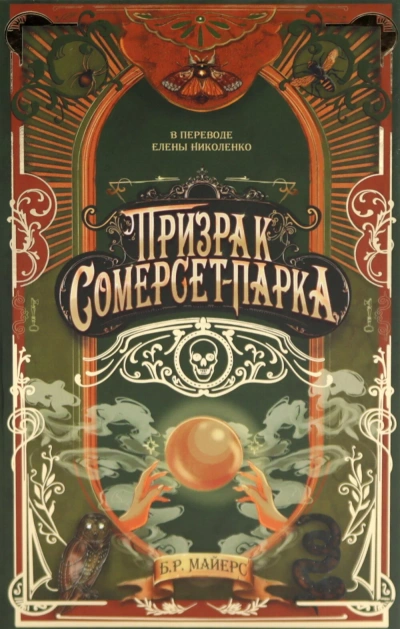Московский Монмартр. Жизнь вокруг городка художников на Верхней Масловке. Творческие будни создателей пролетарского искусства - Татьяна Васильевна Хвостенко
– Ты думаешь, что я играю для тебя? Для вас? Для себя? – грустно сказал скрипач, похожий на Паганини. – Нет. Я играю для моего друга Федора Богородского. Видишь, из окон смотрят на меня художники, они еще не одеты, скрипка разбудила их, а его я не вижу. Он не хочет видеть меня, но по звуку моей скрипки наверняка знает, что это я.
Звуки уносились далеко за пределы двора. Наконец он кончил играть, положил скрипку в футляр, подобрал деньги и ушел. Больше я его не видела. Папа говорил, что встретил его как-то раз на нашей площадке. Он стучал в дверь к Федору Богородскому, но дверь так и не открыли.
Федор Семенович Богородский был нашим соседом. Он рассказывал забавные истории, ходил на руках, показывал фокусы с картами. У него была великолепная память на имена, даты, места.
Каждое утро, выходя из своей квартиры, я видела на соседней двери бронзовую табличку: «Профессор Федор Семенович Богородский. С. В. Разумовская».
Федор Семенович любил показывать большие семейные альбомы с фотографиями отца-адвоката, матери, сестер. Были особые альбомы с фотографиями Федора Семеновича среди соратников по партии, в кругу художников АХРРа, ОСТа, МХТ и других объединений, рядом с Горьким, Маяковским, рядом с Булганиным, Кагановичем, Ворошиловым. Когда кто-нибудь из запечатленных на фотографиях умирал, Федор Семенович доставал заветный альбом и над головой почившего аккуратно рисовал крест. Жена Богородского Софья Васильевна не пропускала ни одних похорон.
Софья Васильевна, искусствовед, дочь известного хирурга Разумовского, была второй женой Богородского. Помню, как она въезжала в наш дом: несколько подвод, груженных всяческим скарбом, на одной из них – огромный рояль. Жильцы дома, увидев саму Софью Васильевну, только переглядывались и пожимали плечами: чем же эта тонкогубая невзрачная женщина прельстила Богородского, красавца и большого ценителя женщин?
Веру Павловну Кузнецову, свою прежнюю жену, миловидную блондинку с добрыми серыми глазами, Федор Семенович устроил в издательство «Советский художник», где она потом проработала старшим редактором до своей смерти. Ее там любили. Бывая в издательстве, я всегда заглядывала к ней, и мы долго беседовали обо всем на свете. Вера Павловна дружила с дочерью Шаляпина Ириной, и у нее в доме хранилась коллекция картин и старинная мебель, принадлежавшая Ирине. После смерти Веры Павловны все это было расхищено. Софья Васильевна Разумовская интересовалась у меня судьбой картин Веры Павловны, но я ничем не могла ей помочь.
С началом войны Богородские с сыном Васильком уехали в эвакуацию в село Богородское. Там Василька не стало.
Федор Семенович появился в Москве в 1942 году, когда самое тяжелое для города время миновало. Тем не менее, к великому изумлению художников, он получил медаль «За оборону Москвы», а позднее и другие награды, в том числе и медаль «За оборону Сталинграда». Вскоре вернулась в Москву и Софья Васильевна. У Богородских родился сын Митя, и жизнь пошла своим чередом.
В своей книге воспоминаний Богородский много раз упоминает моего отца. Он называет его по-дружески просто Васей, – казалось, он любил и уважал моих родителей.
Однажды он, как всегда, вышел в халате на лестничную площадку за газетой. Просматривая ее на ходу, обратился к моей матери, как раз выходившей из своей квартиры:
– Посмотрите, Шурочка, вот еще группа врачей-вредителей.
Мама заглянула в статью и в списке вредителей увидела фамилию своей давнишней знакомой Близнянской, которую всегда считала честным и порядочным человеком.
– Федор Семенович, это провокация. Уверена, опять работает пятая колонна, – сказала мама и получила в ответ:
– Я давно знал, что вы плохо относитесь к советской власти.
Мама испугалась. Тут на лестницу вышел отец, а вслед за ним и я.
– Вася, – сказал Федор Семенович, – а твоя жена, оказывается, враг народа. Я давно это подозревал. Пойду звонить.
Тут я бросилась в открытую дверь квартиры Богородских, вырвала с корнем телефонный шнур и запустила аппаратом в Богородского. Что тут началось! Папа и мама валялись у него в ногах. Папа плакал.
Прошло несколько дней. Родители каждую ночь ждали ареста, прислушиваясь к любому шороху, к любому звуку.
А потом к нам зашел Богородский:
– Ну и умница же вы, Александра Яковлевна. Оказывается, врачи не виноваты, почитайте. И он протянул газету.
Мир был восстановлен, но остались страх и неловкость.
Федор Семенович был членом-корреспондентом Академии художеств и мечтал стать действительным академиком. Когда он баллотировался в первый раз, ему не хватило голосов. К повторному голосованию Федор Семенович тщательно готовился: каждый «академик» обрабатывался отдельно. Богородский был общителен, и, казалось, его все любили – и Кукрыниксы, и С. Герасимов, и А. Пластов, и Д. Шмаринов, и Н. Томский… И всем им Федор Семенович оказывал множество услуг.
Наступил день выборов, и оказалось, что «за» подано всего два белых шара, остальные черные – «против». И каждый из академиков потом уверял, что белый шар бросил именно он. Этого удара Богородский не перенес.
Федор Семенович тяжело болел. У него оказалась опухоль мозга. Как-то меня оставили посидеть около больного. Он попросил:
– Сходи, пожалуйста, к Михаилу Александровичу, скажи, что я умираю и прошу его зайти.
Я побежала в соседний дом, к Кузнецову-Волжскому:
– Дядя Миша, Федор Семенович умирает!
Дядя Миша помрачнел:
– Передай ему, пусть умрет непрощенным.
1937 год. Памяти друзей
С подачи Богородского посадили многих художников. Вернулись немногие, один из вернувшихся – Михаил Александрович Кузнецов-Волжский. Он и рассказал о роли Богородского в судьбах многих людей.
Замечательный рисовальщик и портретист Константин Максимов был очень общительным, он часто бывал и у нас, и у Нероды. Они вместе учились в Училище живописи, ваяния и зодчества, в мастерской К. А. Коровина и С. В. Малютина.
Жена Константина Ивановича, Мария Михайловна, была похожа на Любовь Орлову и тоже была артисткой – пела, танцевала, играла на гитаре и на фортепиано. Их сын Сережа, внешне – копия отца, поступил в Училище памяти 1905 года вместе с Юрой Неродой, сыном Георгия Васильевича. Хозяйство у Максимовых вела бабушка, Пелагея Ивановна, и, когда Нероды еще не жили на Масловке, Юру часто отправляли к Максимовым, зная, что за ним там всегда присмотрят.
Константина Ивановича Максимова и его жену арестовали в 1937-м. На Масловке говорили – якобы за связь с Чехословакией: у Максимовых там были друзья, и они, естественно, переписывались.
Вслед за Максимовым взяли Леонида Лаврова. Когда еще разрешалось ездить за границу, в 20-е годы, Лавров уехал во Францию. Там он женился на француженке, у них родилась дочь. В 1936 году Лавровы вернулись в Россию, в 1937-м арестовали и Леонида, и его жену.
На Лубянке Лаврову устроили очную ставку с Максимовым. В комнату под руки ввели человека, которого, видимо, так били, что он не мог самостоятельно передвигаться. Это был Константин Иванович. Заметив Лаврова, он не узнал его. Стали спрашивать, верно ли, что он и Лавров делали подкоп под Мавзолей, Максимов твердил: «Да,