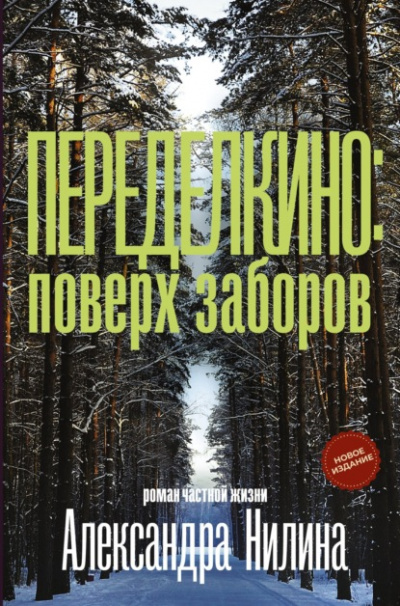Волга. Русское путешествие. Избранные главы - Гейр Поллен
В сентябре 1833 года Казань посетил Пушкин. Правда, его туда влекла не наука, а литература: он хотел написать роман о восстании Пугачева и обратился именно к Фуксу, а не к местным старожилам, чтобы разузнать об участниках трагических событий июля 1774 года, когда бунтовщики захватили и сожгли Казань. Карл Фёдорович провел целый день со знаменитым поэтом и познакомил его с людьми, располагавшими нужными сведениями. Позднее Пушкин написал своей жене Наталье, что был весьма рад знакомству с «умным и ученым немцем», который «одолжил его очень». Как мы видим, даже превратившись из Фридриха в Фёдоровича и прожив в России тридцать лет, в глазах окружающих Фукс так и оставался немцем.
В том же году Карл Фёдорович оставил работу в университете, однако продолжал служение на благо общества как врач и филантроп вплоть до 1842 года, оказавшегося для него крайне тяжелым. В мае под Казанью вспыхнуло и было подавлено восстание марийских, татарских и чувашских крестьян. Поводом для их недовольства послужила реформа, которую они сочли попыткой ограничить их законное право пользоваться частью помещичьей земли. Во время восстания убили восьмерых, а еще несколько сотен получили ранения. Неизвестно, как Фукс воспринял эти события, однако они едва ли прошли для него бесследно. Три месяца спустя, 24 августа 1842 года, в центральной части Казани вспыхнул пожар. Погибли, как ни странно, всего три человека, правда, шестнадцать пожарных получили ожоги, и к тому же в городе сгорели дотла шесть каменных церквей и 1317 зданий, в том числе и дом Карла Фёдоровича. Профессор сам помогает переносить свою драгоценную коллекцию минералов в безопасное место, подальше от огня. К тому времени здоровье у него уже ослабло, и случившийся вскоре инсульт вынудил ученого оставить врачебную практику, однако люди продолжали приходить к нему со всеми мыслимыми и немыслимыми просьбами. Двадцать четвертого апреля 1846 года, после череды мучительных приступов удушья, Фукс умирает. В длинной траурной процессии, следовавшей за гробом на протестантское кладбище, было немало казанских татар. Несмотря на явное разделение в Казани мусульман и христиан, пришедшие почтить покойного татары снимали тюбетейки и благоговейно сжимали их в руках. Карл Фёдорович был их соседом, желанным гостем и единственным в городе врачом, которому они дозволяли лечить своих женщин – матерей, сестер, жен, дочерей. Татары звали его табибом – лекарем. Это подтверждала и долгие годы стоявшая у него на столе печать с надписью «Табиб Фукс».
Нижняя Волга
Обломовщина
Хотя Набоков терпеть не мог Достоевского и в его личном рейтинге русских прозаиков тот уступал первенство Толстому, Гоголю, Чехову и Тургеневу, в глазах большинства читателей борьба за лидерство, скорей всего, идет между создателями «Анны Карениной» и «Братьев Карамазовых». Однако никто из этих властителей дум не может похвастаться тем, чего сумел добиться Иван Гончаров, старший из трех величайших сынов Ульяновска, подаривший русскому языку абсолютно новое слово. В 1859 году, в возрасте сорока семи лет, он издает свой второй роман «Обломов», ставший впоследствии главным произведением русского реализма, и во второй главе один из главных героев, немец Штольц, впервые в истории произносит «обломовщина». Представитель будущей, капиталистической России, Штольц ищет, как обозначить растительное, праздное, самодовольное существование Ильи Ильича Обломова – своего друга и своей полной противоположности: «Это… Какая-то… обломовощина! – восклицает он наконец. О-бло-мовщина! – медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам».
Вскоре после выхода в свет «Обломова» революционный критик Николай Добролюбов, один из многих рано ушедших из жизни русских литераторов, задается вопросом «Что такое обломовщина?» в своей подробной одноименной статье. Языком нынешних педагогов и всех тех, чья задача – воспитывать полезных для общества граждан, на этот вопрос можно ответить так: обломовщина – не только нехватка практических знаний, умений и навыков, необходимых человеку для решения проблем и задач, которые ставит перед ним общество, а полнейшее ко всему этому безразличие.
Что, если проблем в жизни нет, если твой быт всякий раз организует кто-то другой? Илья Ильич получил хорошее образование, он благороден и умен, в этом сомнений нет. Но, рожденный и воспитанный как аристократ в родовом провинциальном поместье Обломовка посреди крепостной России, он с младых ногтей был отучен брать на себя ответственность за собственные действия. Даже чулки, в которых он ходит, ему натягивает слуга. Было время, лет десять назад, он тоже жаждал «служить отечеству, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников», но эти мечты так и остались мечтами. Роман начинается с того, что Обломов, лежа на диване в своей квартире на одной из главных улиц Петербурга, пытается убедить энергичного Штольца в том, что единственной целью и смыслом жизни является мир и покой. Автор искусно описывает своего неоднозначного героя: «Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием». Книги и переводы, которые некогда так живо интересовали его, уже давно заброшены в дальний угол верным слугой Захаром. Куда именно, никто из них уже и не помнит, да и барину это совсем не интересно.
Гончаров не называет точного местоположения Обломовки, но упоминает, что «крестьяне в известное время возили зерно на ближайшую пристань к Волге». Читатель также узнает, что в восьмидесяти верстах от нее есть губернский город. И хотя крестьяне там никогда не бывали и, вероятно, никогда не будут, они знали, что подальше, там, города Нижний Новгород и Саратов. Всё это указывает на окрестности Ульяновска, тогда Симбирска, где в легендарном 1812 году писатель появился на свет в зажиточной купеческой семье. Десяти лет от роду его отправляют в коммерческое училище в Москве, после которого он три года учится на словесном отделении Московского университета. Затем он, как и многие другие молодые люди в то время, поступает на государственную службу: сначала одиннадцать месяцев служит секретарем губернатора родного города, затем переводчиком, а всю дальнейшую жизнь – цензором в Санкт-Петербурге. И хотя