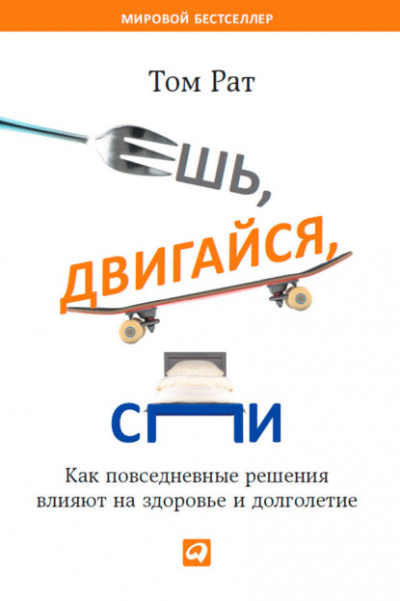В клетке у зверя (СИ) - Юта Анна
Лера молчит, а я ощущаю, что сейчас самое время. Мне есть что сказать, и я готов сорвать латы, которые приросли к коже за долгих двадцать лет.
— Нас растил отец, — фух, сказал!
Начало положено. Хорошо, что Лера сейчас на меня не смотрит. Мы медленно прогуливаемся по небольшому скверу. Придется понаматывать круги, пока я выговорюсь.
— Он не был… Не так. Он не испытывал к нам с братом ничего, кроме неприязни, — продолжаю, пытаясь подобрать слова, но они кажутся слишком маленькими, ничтожными, не отражающими всю суть. — Тохе доставалось больше, он защищал меня, отвлекая отца на себя.
В голове всплывают картинки из детства, которые хотелось бы развидеть.
— Мы учились в интернате для трудных подростков. Но не потому что были трудными, а потому что он договорился с надзирателями о нас. Чтобы мужиками выросли. Там все, кроме нас, радовались каникулам. А для нас это означало из худо-бедно нормальных условий, где ты можешь защититься, попасть в место, где для тебя нет спасения.
Лера безучастно кивает, но не перебивает.
— На каникулах мы жили в его доме, который находился в глуши по Мурманскому направлению. Этот упырь однажды хорошо поднялся на кооперативах и обманутых дольщиках и жил как рантье. Он стриг нас сам под машинку, выводил на пробежку в одних трусах в любую погоду. И постоянно бил. Это была не жизнь, а выживание, — замолкаю. В горле встает ком безмолвной ярости. — Я уже не могу воздать ему по заслугам. Не могу запирать в полуметровом подполе и держать сутками без еды. Не могу заставить качать пресс на мерзлой земле.
— Поэтому коллекция? — подает голос Лера. — Ты поэтому помогаешь другим?
Задумываюсь.
— Я не связывал это, — чешу затылок. — Просто ощущал, что тех, кто не может защититься от тиранов, нужно защищать.
Произношу эти слова и вспоминаю слова Леры.
— Ты сказала, что я выступал для тебя таким же тираном, от кого защищаю других, — голос сипнет от накатывающего стыда. — Я должен извиниться. Мне очень жаль. Я был не прав. Но я не ставил целью причинить тебе вред, просто действовал единственным, известным мне способом.
— Как? Запугивать и насиловать? — Лера идет в атаку. Жестокие слова. Такие же жестокие, как поступки, которые я совершил.
Молчу. Внутри разрастается чувство вины.
— Ты не такая, как остальные, с кем я привык иметь дело. Я не сделал скидку на это, — произношу виновато. За это я правда себя корю. — У меня до тебя были только эскортницы или девушки, явно заинтересованные во мне. Мне было привычно, что мне отдаются с удовольствием. Я поздно отсек, то ты удовольствия не получаешь. И об этом я тоже сожалею.
— Ты силой забрал мою невинность, Вадим, — тяжелым тоном произносит Лера.
И вот снова звучит мое имя, а ощущается, как удар хлыста поперек хребтины. Никто до неё не произносил мое имя так пронзительно. Или ни с кем это так не воспринималось.
— Ты у меня тоже была первой девственницей, — улыбаюсь. — Я никогда не стремился быть у женщин первым. Так было проще. А с тобой… Я не справился. Не удержался. Следовало подождать, а я хотел дорваться до тела. И не потому что ты была в моей власти, а потому что от тебя крышу сносит. Есть в тебе что-то, к чему хочется тянуться, а точнее, впиться клещом и не отпускать.
Замолкаю, пытаясь снова подобрать слова. Никогда не был так многословен с женщинами. И уж точно никогда не стремился выбирать выражения. А тут… Чувство, что по тонкому льду, любое неверное движение, и ко дну топором, в ледяную муть. Одиночества. Именно сейчас я вдруг осознаю, что всегда был одинок. Но не гордым одиноким волком, а одиночкой, который не может никого подпустить.
— Ты свет, Лер, — вот! Правильное слово. — Рядом с тобой тепло. Но осознал я это только после того, как довел ситуацию до кризиса. Всему виной Олег и другие проблемы. Они забивали эфир, не давали остановиться и подумать. В моем мире или я, или меня, понимаешь? Нет возможности отсидеться в сторонке и помедитировать. Расслабился — сдох. В прямом или переносном смысле.
Ненадолго замолкаю. Я сказал почти все, что хотел, и не уверен, что способен вернуться и повторить.
— Ты — единственная, кто это узнал, — добавляю против воли мрачно. — Мы с Тохой выросли без доверия к миру, потому что самый близкий, кто призван защищать, раз за разом уничтожал это доверие. Я в результате начал помогать людям спрятаться от насилия, а Тоха… Он не злой сам по себе, просто он так и не вырвался из отцовского плена и живет с заряженным стволом под подушкой.
Лера молчит и, кажется, в шоке от услышанного. Я тоже молчу, я эмоционально вымотан и подавлен. Сейчас хочется только опрокинуть в себя бутылку виски.
Я пустил Леру туда, куда никого никогда не пускал. Потому что уверен, что она не оставит грязных следов. Но она вдруг задает тот вопрос, на который я бы никогда не хотел отвечать.
50. ♀
От откровений Волжского мороз по коже. А я думала, у меня было такое себе детство в неполной семье с мамой, которая едва сводила концы с концами. Она меня, по крайней мере, любила. Теперь мне становится понятно, как вышло так, что внешне красивый мужчина внутри монстр. Он просто не знает, как можно по-другому. Не силой. Горько за него и обидно за себя. Никто не заслужил детства, как у него, ровно как никто не заслужил участи, как у меня.
Какое-то время мы молчим, продолжая гулять. Странно называть прогулкой круг по скверу, на который приходится дай бог шагов триста. Но здесь спокойно. Это подкупает. Погода привычно серая, хотя солнечная бы не подошла под настроение.
— А где была ваша мама? — спрашиваю спустя очередной круг. — Почему она не забрала вас с собой?
Вадим вздрагивает на слове «мама». Тяжело вздыхает. Топит взгляд под ногами.
— О маме я помню только её мягкие руки и глаза, которые смотрели на меня с любовью. Они были карие, — с теплотой отвечает он. — Но эти короткие обрывки воспоминаний перекрываются последним. Гораздо резче в памяти сохранилось её тело в петле, посиневшее и совершенно мертвое. Мне было четыре, когда она повесилась. Тохе шесть. В предсмертной записке она извинялась перед нами, а отцу желала сдохнуть и гореть в аду всю его вечность.
К концу голос Вадима сипнет и грубеет. Он замолкает, видимо, справляясь с эмоциями. У меня в душе тоже шквал. Не представляю, что бы со мной было, если бы я в четыре года нашла маму мертвой. Да ещё и в результате суицида. У Вадима какая-то нереально тяжелая судьба, и чем больше я о нем узнаю, тем больше сочувствую ему как человеку.
— Отец не позволял её вспоминать, — продолжает Вадим. — И тем более не обсуждать её смерть. Записку нашел Тоха и прочитал, он тогда уже умел читать. Я не понимал концепций рая и ада, не понимал, зачем в нем гореть, но понимал, что мама извинилась передо мной, только вот поступок совершила, который нельзя простить. Смерть не исправить.
— Есть и другие вещи, которые нельзя простить, Вадим, — отвечаю холодно, пытаясь скрыть за этим собственную душевную боль, которая сейчас выросла во весь рост.
— Я поступил с тобой плохо, я это признаю, — произносит Вадим. — Но я не видел другого способа. Даже не допускал, что можно иначе.
— Ты не вернешь того, что сделал, — цежу сквозь зубы. — И я не прощу тебе насилия над собой.
Головой я осознаю, что он и правда мог не понимать, что поступает плохо. Он просто такой. Не садист, который наслаждался, причиняя мне боль, а человек, который привык получать все и без остатка, не встречая отказа или сопротивления. Он каток, которому плевать, что асфальту, который он утрамбовывает, может быть больно. Но от этого осознания не легче.
— Не верну, но смогу исправить! — горячо парирует он. — Мы оба живы, а значит, ничего не кончено!
Люди не меняются. Я всегда это знала, но сейчас его слова терзают мне душу. Это нечестно, давать свой жестокий и неприглядный бэкграунд, а потом накладывать на него посулы добра и исправления!
Внутри меня борются разнонаправленные чувства. Сострадание к его тяжелой судьбе и желание утешить с одной стороны. Горькая обида и недоверие с другой. Одна моя часть вопит, что нужно ужалить его побольнее, показав ему, какой он моими глазами. Другая просит быть снисходительной и дать ему самому до конца все осознать. А я, мой собственный сухой остаток мечется, не зная, что выбрать, и приближается к истерическому состоянию.