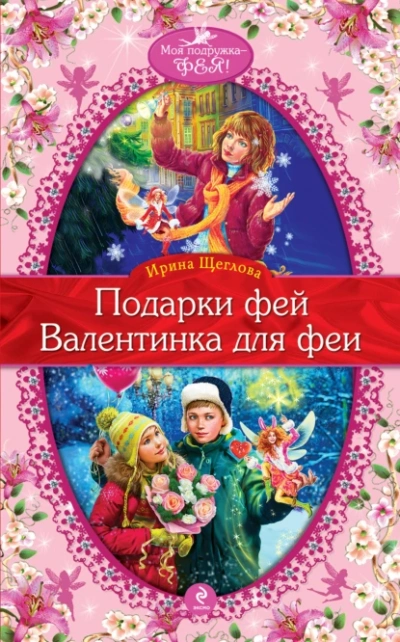История Спарты (период архаики и классики) - Лариса Гаврииловна Печатнова
В историографии нового времени, как западной, так и отечественной, безусловно преобладающей является точка зрения на илотов как государственных рабов[484]. Она основана на добротной исторической традиции и редко оспаривается. Хотя иногда высказывается и прямо противоположное мнение. Так, некоторые ученые склонны рассматривать илотов скорее как частных рабов, а роль государства ограничивать лишь надзором за ними[485]. Но эта версия без прямого насилия над преданием не поддается убедительному доказательству. К. Краймс, к примеру, в своем желании доказать частнособственнический характер илотии не останавливается перед полным отрицанием исторической традиции. «Павсаний делает ту же ошибку, что и Страбон, — пишет она, — называя илотов «рабами общины»»[486]. Д. Лотце, в целом считая илотов скорее государственными, чем частными рабами, однако призывает, учитывая всю сложность проблемы, к осторожности в применении современных дефиниций. По его мнению, отношения собственности, в которые были включены илоты в качестве их объекта, были более сложными, так что их нельзя однозначно определять такими современными понятиями, как государственная или частная собственность. «Илоты, — замечает он, — вовсе не были государственными служащими, которые обрабатывали участки граждан по прямому заданию государства»[487].
Среди современных исследователей, не склонных к радикальному пересмотру и критике существующей традиции, илотию принято рассматривать как вариант коллективного рабства, возникшего в результате «агрессивной экспансии» дорийцев на территорию Лаконии. Основополагающей в плане разработки, систематизации и обоснования этой теории является работа Д. Лотце «Между свободными и рабами»[488]. Д. Лотце, полагая, что статус илотов слишком запутан, чтобы выразить его обычными терминами, предложил новую дефиницию для илотии, определив ее как коллективное рабство, возникшее в ходе завоевания. По мнению Д. Лотце, изначальный коллективный характер илотии определялся примитивным уровнем дорийской цивилизации, что нашло свое выражение в неразвитости частной формы собственности. Вслед за Д. Лотце примитивный характер илотии по сравнению с классическим рабством признается и другими исследователями. Так, П. Олива определяет илотию как «неразвитое рабство» или «неразвитый тип рабства»[489]. Французский исследователь И. Гарлан причисляет илотию к типичным формам «общинного порабощения» и считает ее близкой к микенскому типу рабства. По его мнению, правомерно говорить о качественных отличиях между примитивными формами рабства, такими, которые существовали в Микенах и Спарте, и рабством классического типа. Среди качественных отличий между ними он называет наличие у рабов «примитивного типа» имущества, что de facto означает признание за ними прав на его владение, а также определенной хозяйственной самостоятельности[490].
В отечественной историографии общепризнанной является точка зрения, высказанная в 1933 г. В. В. Струве, что илотия еще более примитивная форма «крепостничества завоевательного типа», нежели эксплуатация рабов[491]. И. М. Дьяконов развивает эту тему, сравнивая рабов в Шумере со спартанскими илотами. Он полагает, что и те и другие относились к рабам «патриархального» типа, которые сохраняли еще некоторые черты правовой личности, такие, например, как право вступать в брак и владеть частной собственностью[492]. Сторонники этой теории вполне справедливо усматривают причину возникновения коллективных форм рабства в особенностях завоевательной политики дорийцев[493]. Дорийцы придерживались одной и той же модели поведения по отношению к покоренному местному населению: членов завоеванной общины превращали в рабов, принадлежавших совокупно всему коллективу завоевателей, и приписывали в качестве необходимого «инвентаря» к клерам, тоже являвшимся их коллективной собственностью. В результате илоты оказывались обязательным «атрибутом отдельных пожалованных клеров», и в качестве таковых их нельзя было ни отчуждать от наделов, ни, тем более, продавать как обычных рабов.
М. Финли противопоставляет илотию как коллективную форму рабства двум другим известным в античности типам рабства: рабству-должничеству и покупному, или классическому, рабству. Основное отличие он усматривает в том, что при илотии порабощался единовременно целый народ, оказавшийся в положении порабощенной общины, а при классических вариантах рабства рабы попадали в зависимость каждый индивидуально[494].
Греческие авторы, желая как-то объяснить те гарантии, которые брало на себя государство по отношению к илотам, ссылаются на древний «первоначальный договор», заключенный между победителями — спартанцами и побежденными — мессенцами (Ephor. ap. Strab. VIII, 5, 4, p. 365). Античная традиция связывает подобные «договоры рабства» не только со спартанскими илотами, но также с фессалийскими пенестами и гераклейскими мариандинами (Archemach. ap. Athen. VI, 264 a-b; Posidon. ap. Athen. VI, 263 c-d; Strab. XII, 3, 4, p. 542). Фрагменты предания дают нам возможность восстановить отдельные пункты подобных соглашений. Так, согласно Посидонию и Страбону, в первоначальный договор между победителями-гераклеотами и побежденными-мариандинами был включен пункт о запрещении продавать мариандинов за пределы страны[495]. Степень вмешательства государства в данном случае определялась корпоративными интересами всего гражданского коллектива.
К античной традиции о так называемых первоначальных договорах следует отнестись с известной степенью доверия, хотя в науке не раз высказывались сомнения в ее достоверности. В основе недоверия к исторической традиции лежит представление об искусственности конструкции, составленной из параллельных антагонистических пар типа: илоты — спартиаты, гераклеоты — мариандины, фессалийцы — пенесты и т. д. Э. Д. Фролов, в целом признающий историчность предания о договорах, тем не менее считает, что некоторые аргументы есть и у противников этой концепции[496]. Мы согласны с мнением тех исследователей, которые полагают, что традиция о первоначальном договоре — не просто исторический миф, возникший на пустом месте. Действительно, результатом длительной борьбы целых племен и народов могли быть «оформленные грубейшим образом соглашения»[497].
Суммируя результаты изучения илотии, приведем краткое, но вобравшее в себя основные выводы современной науки определение Э. Эндрюса в «Британской энциклопедии»: «Илоты, крепостные древних спартанцев… Их рабский статус в исторические времена восходит к завоеванию страны уступавшими им в численном отношении дорийцами… Они были в некотором смысле государственными рабами, прикрепленными к земле и приписанными к отдельным спартиатам для обработки их наделов; их господа не могли их ни освобождать, ни продавать, и у них было ограниченное право накапливать имущество, после уплаты господам установленной доли урожая с надела…»[498].
Несмотря на то что проблема илотии не раз поднималась в новой и новейшей историографии античности, тем не менее отдельные ее аспекты не получили еще, как нам кажется, должного освещения. В частности, не совсем ясным остается вопрос об этническом составе илотов. Наметившийся сравнительно недавно дифференцированный подход ко