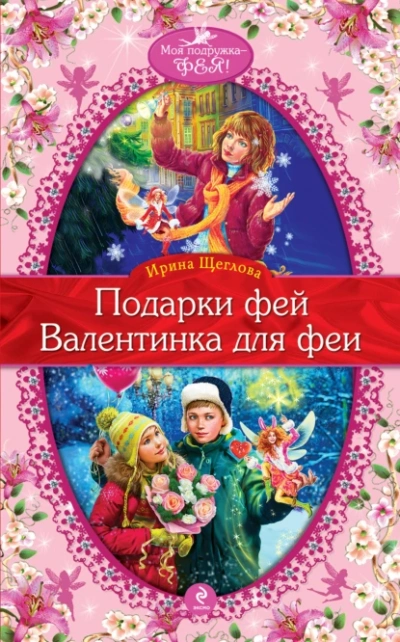История Спарты (период архаики и классики) - Лариса Гаврииловна Печатнова
Возвращаясь к рассказу Ксенофонта, заметим, что заговорщиков, имеющих оружие и составляющих ядро заговора, было немного. Организованным и вооруженным должным образом заговорщикам (oiJ suntetagmevnoi) противопоставляется безоружная народная масса (oJ o[clo»), которая, по словам Кинадона, в момент выступления может вооружиться чем попало — любыми орудиями ремесленного труда (Hell. III, 3, 7). Под «народом» Ксенофонт имеет в виду все категории спартанского населения, не входящие в общину «равных», в том числе и гипомейонов (Hell. III, 3, 6).
Таким образом, в число руководителей заговора, судя по всему, входили гипомейоны, принятые на государственную службу за особые заслуги перед спартанским полисом[752]. Они были явно не из народа, хотя и сближали себя с ним. При этом основная масса гипомейонов включена Ксенофонтом в понятие «народ», «демос», который постепенно формировался в Спарте из деградировавших спартиатов. По-видимому, уже в начале IV в. их численность была довольно внушительной, недаром Ксенофонт называет их в одном ряду с илотами, периеками и неодамодами (Hell. III, 3, 6). В дальнейшем же, чем быстрее в Спарте росла диспропорция между богатством и бедностью (Arist. Pol. II, 6, 10, 1270 a 15), тем больше появлялось так называемых «опустившихся» спартиатов. Плутарх, знавший результат этого длительного процесса, уверяет, что в Спарте к моменту реформ Агиса и Клеомена осталось не более ста собственников земли, а все остальное гражданское население выродилось в «жалкую и нищую толпу» (Agis 5, 7). Согласно Плутарху, эти люди пребывали «в постоянной готовности воспользоваться любым случаем для переворота и изменения существующих порядков» (Agis 5, 7). «Нищая и жалкая толпа» Плутарха, которую он именует «спартиатами», очень напоминает нам гипомейонов Ксенофонта. Плутарх в отличие от знатока спартанских реалий Ксенофонта, конечно, мог не знать специального термина, употребляемого в Спарте для обозначения подобных деклассированных граждан, но он точно описал данную социальную группу.
Круг прав и обязанностей гипомейонов, как мы их себе представляем, был достаточно ограниченным. Они не участвовали в сисситиях, не являлись членами гоплитской фаланги. Поражение в правах, очевидно, распространялось и на другие сферы общественно-политической жизни. Вряд ли они могли занимать и выборные должности. Но одно право у них, кажется, все же было — это право участвовать в народном собрании. Вопрос об участии или неучастии гипомейонов в спартанской апелле связан с проблемой так называемой малой экклесии.
Единственное место, где обозначена малая экклесия, — сообщение Ксенофонта о заговоре Кинадона. Эфоры, по версии Ксенофонта, так были напуганы известием о заговоре и так спешили подавить мятеж в зародыше, что «не созвали даже так называемой малой экклесии» (Hell. III, 3, 8 — th;n mikra;n kaloumevvvnhn ejkklhsivan). Больше малая экклесия нигде не упоминается. Однако текст Ксенофонта является достаточной гарантией, что подобный институт действительно существовал[753]. Косвенное подтверждение тому являет собой надпись из Гифия, датируемая приблизительно 70-ми гг. I в. В ней речь идет о большой апелле (IG, V, 1, 1144, l. 20 — div a} e[doxe tw’i davmwi ejvn tai’» megavlai» ajpellai’»)[754]. К. Краймс приписывает подобное наименование народного собрания в Гифии прямому влиянию Спарты[755]. Дело в том, что Гифий, насколько нам известно, занимал привилегированное положение среди прочих городов периеков как военно-морская база Спарты (Xen. Hell. VI, 5, 32) и потому был более открыт спартанскому влиянию[756].
Установить с большей или меньшей точностью время возникновения малой экклесии представляется весьма затруднительным. По мнению К. Германна, малая экклесия возникла тогда, когда среди самих спартиатов уже не существовало первоначального равенства[757].
Возможно, появление этого нового для Спарты института было непосредственно связано с численным ростом в конце V в. гипомейонов и неодамодов, чей статус граждан предполагал их участие в народном собрании[758]. Подтверждением тому может служить одно место у Плутарха в биографии Агиса, где речь идет о количественном и качественном составе спартанского гражданства. Как уже упоминалось, к моменту реформ Агиса и Клеомена поляризация общества уже достигла своего апогея. На одном полюсе находилось 700 спартиатов, из которых только сто человек имели свои клеры, на другом — вся остальная масса граждан, которых Плутарх называет «толпой», «чернью» (oJ o[clo» — Agis 5). Тем не менее эта «толпа, лишенная средств к жизни и доступа к общественным должностям» участвует в народных собраниях, которые созывал царь Агис (Plut. Agis 9).
Кто же такие эти граждане, которые, однако, не пользуются вполне гражданскими правами? В. Г. Васильевский полагал, что здесь речь идет о гипомейонах. «Противоположность между спартиатами и просто гражданами или «толпою» Плутарха та же самая, какая у других писателей обозначается именами, с одной стороны, «равных», с другой, «меньших», «худших» (uJpomeivone»), т. е. противоположность полноправных граждан, аристократии, и граждан неполноправных»[759], которые только по имени были гражданами. Последние, с точки зрения В. Г. Васильевского, могли участвовать только в «большой» экклесии и не допускались в «малую»[760].
По-видимому, в Спарте, где граждане были разделены на несколько категорий, народные собрания также делились, по крайней мере, на два вида — ординарные, или большие экклесии, и малые, элитарные. Если в первых могло участвовать все гражданское население, включая неодамодов и гипомейонов, то в последних — только те, кто принадлежал к общине равных[761], да и то, возможно, не все из них. Не исключено, что малая экклесия постепенно узурпировала власть «большой» апеллы, сделав последнюю лишь фикцией народовластия (ср.: Arist. Pol. III, 1, 7, 1275 b 6–8)[762].
Если это так, то сам факт появления малой экклесии является одним из многочисленных симптомов внутреннего разложения спартанского общества, в котором «за фасадом политического равенства скрывалась формация земельной олигархии»[763].
Подводя итоги, хочется отметить, что внешнеполитическому кризису Спарты, выразившемуся в потере гегемонии над Грецией