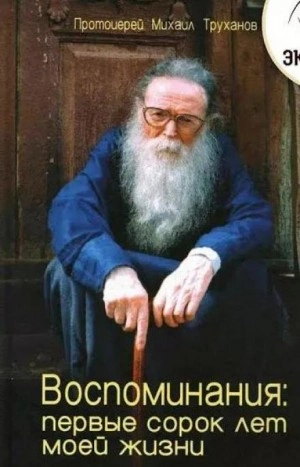Алкиной - Роман Львович Шмараков
Оставив его, я пошел дальше; тут меня окликнули по имени, я оглянулся и узнал одного старого знакомца, своего земляка по имени Феодот. Мы обнялись и расцеловались; он спрашивал меня, как я поживаю и какими судьбами в этих краях, я же разглядывал его, поражаясь, какая тощая тень осталась от прежней его статности и осанистости. Приметив мои взгляды, он развел руками и промолвил:
«Видишь, каков я и сам и красив, и величествен видом,
а вернее сказать, как мало в этой руине, плющом оплетенной, от знакомого тебе Феодота, с его башнями и зубцами! Но чего не сделает с нашей гордостью всечасный голод и горькая нужда: когда всякий день ложишься спать под вопли своего живота, быстро забудешь прошлые роскоши и начнешь самого себя вспоминать, как актера на сцене».
«Разве здесь по-прежнему нужна еда? – спросил я. – Мне-то казалось, что с отнятием тела пропадают и присущие ему потребности».
«Мало же ты знаешь о потребностях, – возразил Феодот. – Доводилось ли тебе разговаривать с людьми, которым ногу отгрыз медведь или отрезал медик? Слышал ли ты их сетования на боль в потерянном члене? Вспомни Филоксена, потерявшего руку в каликаднских камышах: помнишь, как он жаловался, что она нестерпимо чешется, хотя рука его давно пребывала в Элисии, наслаждаясь общением с другими прославленными руками, как то Гипсенора, сына Долопионова, и прочих великих мужей, и не имела никаких причин чесаться? Так и с желудком: хоть он у нас и отнят, но чешется по-прежнему».
«Как же вы обходитесь?» – спросил я.
«Радоваться нечему, – отвечал Феодот. – Питаюсь мальвой и асфоделями, благо их тут сколько угодно, и думаю скоро достигнуть пифагорейской святости, а пока одно мне утешение, что подагра моя прошла вместе с роскошью, ее породившей. Худо, что образование делает нас разборчивыми: я не могу, как здешние мужики, натрескаться гороха, растущего здесь в изобилии, и завалиться спать, выпуская ветры из подземного вертепа; я человек взыскательный. Некоторые и здесь устроились: к примеру, этот, – показал он пальцем в сторону озера, где я только что был, – знай загребает из своей чашки соленую свинину и фригийскую капусту, ни с кем не делясь, хоть они у него никогда не кончаются; но у него здесь привилегии, и его не тронут, что же до прочих, то наши надзиратели, – тут он указал на демонов, неустанно снующих в толпе, – которых зовут, словно Плутоновых коней, одного Орфнеем, другого Никтолевстом, смотрят зорко, каждому заглядывают в рот, и если доведется тебе разжиться сладким куском, вырвут из самого горла; пробовали с ними договориться, но они держатся строго, боясь, что на них свои же донесут. Суди сам, дорогой мой, весело ли мы тут живем и есть ли у нас поводы хвалиться».
Слушая такие жалобы, я повесил голову, но Феодот тронул меня за плечо, сказав, что теперь надо мне спешить к судилищу, где участь моя решится. Мы пошли общей дорогой. Судьи той порой ушли обедать, и при трибунале остался один письмоводитель, разбиравший недоконченные дела. Своей очереди ждал еще один покойник; я хотел спросить, кто он и откуда, но письмоводитель быстро взглянул на него и обратился к сопровождавшему его демону: «Кого ты приволок? Это Курма куриал, а тебе поручен был Курма кузнец, тот, что в прошлом году сделал замок с ключом одному богачу, придержав
![Книга скворцов [litres] - Роман Львович Шмараков](/uploads/posts/books/465806/465806.jpg)