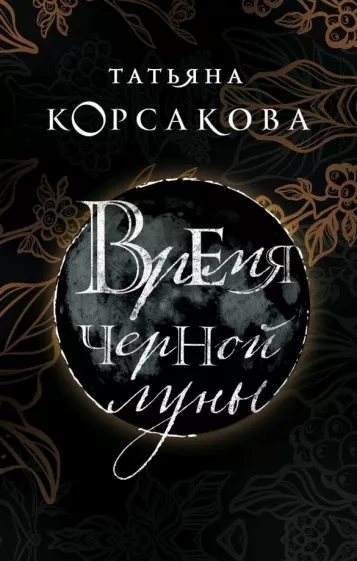Похвала Сергию - Дмитрий Михайлович Балашов
– Потом, после! – отмолвил Феогност, взглядом отсылая просителя к протопопу: пусть разберет и доложит, может, дело разрешимо и без его обязательного участия? Передача наследства, вклад ли в монастырь части имущества – сколь многими из таких вот обыденных дел верующие всенепременно жаждут занять внимание самого главы русской церкви!
Затем Феогноста отвлекли монашеские дела, и, до позднего вечера разбирая поземельные тяжбы, уча и налагая епитимьи, изъясняя тонкости служебного устава сельским иереям, Феогност начисто запамятовал о тех двоих и припомнил лишь поздно вечером, перед сном, и то не враз, а по докладу келейника, повестившего, что дети боярские из города Радонежа, Стефан и Варфоломей, мыслят устроить вдвоем монастырь и пришли за освященным антиминсом. И о том-де ходатайствует Алексий, прося отнестись к просителям со вниманием. Только тут, с опозданием, Феогност вспомнил о грамоте Алексия, вернее, о приписке, которой сопроводил наместник отчет о делах в Селецкой митрополичьей волости. Подумав, Феогност вздохнул и, как ни был усталым, все же решил принять сих просителей тотчас, не откладывая, дабы испытать в серьезности и строгости намерения.
– Проси! – приказал он келейнику.
Те двое вступили в покой. Теперь, в свечном пламени, он мог рассмотреть их внимательнее. У монаха и его младшего брата лица были отнюдь не рядовых мирян, и Феогност, поначалу усомнившийся – мало ли кто дерзает на высокое, не имея и представления о том, что ему надлежит знать, – несколько оживился. Благословив и подняв с колен братьев, он усадил их на лавку и еще помедлил, разглядывая и раздумывая. Нет, выслушать того и другого стоило определенно!
Стефан, так звали старшего из них, был, как оказалось, иноком монастыря, что на Хотькове, но желал всенепременно устроить пустынножительство, и не он даже, а его младший брат, молчаливый отрок, о сю пору почти не проронивший слова.
Феогност с некоторым удивлением выслушал обо всем этом, осторожно вопросив: не лучше ли молодшему такожде вступить в обитель брата своего, дабы там пройти подвиг послушания?
Светлоокий юноша тут только, отрочески зарозовев, разлепил уста и, повергнув Феогноста в еще большее изумление, возгласил:
– Владыко! Мы уже и церкву срубили, и хижину с кельей. Токмо освятить осталось! Давняя то наша с братом мечта, и моя… Родителев берег до успения, не то бы давно уж… – Он не кончил, смутившись и опустив очи.
Во всем этом была какая-то крестьянская неуклюжесть, основательность и прямота. Так вот работящий смерд, порешивший нечто, молча берет в руки орудие и делает потребное ему, а после того как свершит, молча кажет, почти не прибавляя слов к делу. Срубили церкву! Вдвоем! Без помощи? Братья согласно кивнули головами.
Феогност с любопытством принялся расспрашивать, коего рода и семьи тот и другой. Оказалось, и роду не простого, из великих, правда зело обедневших ростовских бояр, позже переселившихся в Радонеж, почему Стефан научился грамоте и книжному разумению в знаменитом Григорьевском затворе Ростова Великого.
Удивление Феогноста и вместе невольное благорасположение к обоим братьям росло. Он незаметно, рядом вопросов, заданных как бы между делом и вскользь, проверил литургическую грамотность Стефана, опять с удивлением убедясь, что он много основательнее подготовлен, чем иные иереи, сущие на службе церковной, и тем паче – чем многие мнихи монастырей, даже столичных. Удивление и уважение к гостю укрепилось совсем, когда Стефан произнес несколько фраз по-гречески.
Заинтересованный всерьез, забыв о времени и сне, Феогност, ударив в подвешенное блюдо, вызвал келейника, распорядясь подать то, что осталось от трапезы: холодную рыбу, хлеб, яблоки и брусничный квас, предложив братьям вкусить вместе с ним, и уже за едою мог оценить по достоинству своих молодых гостей. Удивительные русичи, сидевшие перед ним, ели опрятно и красиво, с полным уважением к пище и ее дарителю, но вполне отчуждаясь животной жадности голодного простолюдина, что тоже весьма приглянулось ученому греку. Он все яснее и ясней видел, что эти сильные и привычные к труду люди, с рабочими твердыми руками, все же именно и сугубо принадлежат к духовно избранным, к лучшей, «вятшей» части общества, и принадлежат к ней не токмо по рождению и давнему боярству своему, но сугубо по благородству духа и нравственному воспитанию, что Феогност не мог не почитать более высоким по лествице человеческих ценностей, чем родовое, наследственное право.
– Все же! – отирая руки полотняным убрусом и откидываясь в своем креслице, произнес Феогност. – Все же почто не вступить вам обоим в один из сущих монастырей, куда по слову моему приняли бы тебя и тебя даже без всякого вклада?
– Владыко! – серьезно ответил Стефан. – Пойми и ты нас! Не токмо церковь срублена этими руками, – он слегка приподнял, показав твердые задубелые ладони, в мозолях, с потемнелою и до блеска отполированною рукоятями топора, тесла и заступа кожею, – мы и путь иноческий избрали себе!
Младший вторично разлепил уста, сказав:
– Хотим, яко древлии старцы египетские, в тишине, в пустыне… – И опять он не окончил, зарозовев.
– Споры и несогласия сотрясают ныне Церковь Православную! – со вздохом вымолвил Феогност, внимательно глядя в лицо Стефану. – Многомысленные мужи надобны и столичным киновиям града Москвы! Слыхал ты о диспутах во граде Константина Варлаама с Григорием Паламою?
– Фаворский свет?! – трепетно вопросил младший.
– Дошло и до нас! – ответил, слегка пожав плечами, Стефан. – Токмо, владыка, не нов сей спор! Еще древлии мнихи знали об исихии и были зело искусны в умном делании. И Григорий Синаит токмо повторил и напомнил сказанное некогда другими учителями церкви: Василием Великим, Григорием Нисским, Дионисием Ареопагитом и иными многими! Упираю на то, владыка, что спор не нов, – Стефан поднял на Феогноста пронзительный, загоревший темным огнем взор праведника и пророка, – не потому, что жажду умалить труды и старания обоих Григориев, Синаита и достойного Паламы, а затем, дабы указать на их сугубую правоту! Варлаам же тщится выказать не токмо то, что ошибаются старцы афонские, но и то, что с первых веков ошибались все подвижники, принимая за образ несотворенного света призраки их собственных мечтаний, хоть и не говорит о том прямо! А сие – ересь сугубая, жаждущая умалить и извратить учение Христа.
Он запнулся, умолк было, утупив взор. Решившись, однако, продолжать, вновь поднял очи