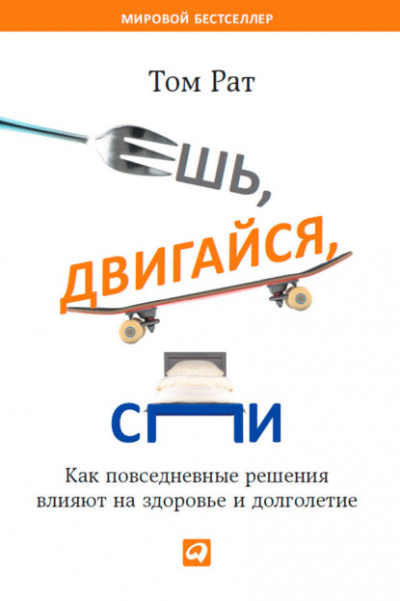Теорема тишины - Александр Дэшли
Анни закинула рюкзак на плечи и взглянула на нас как-то ехидно, а рукав так и свешивался вниз за левым ее плечом, ну точь-в-точь подбитое фениксово крыло.
— Анни, милая, прошу вас, — обратился я к ней в последний раз, поскольку был высокого мнения о ее рассудительности. — Прекратите спектакль. Не надо никуда уходить, вы уже достаточно показали друг другу, кто на что способен.
— Более чем достаточно, — встрял хозяин.
Он стоял поодаль, прислонившись спиной к двери мастерской, и вся его фигура казалась черной, какой-то набухшей, медвежьей, — такую тучу он на себя напустил.
— Анни, останьтесь, — просил я, а она все смотрела и смотрела на меня с насмешкой. — Пожалуйста.
— Между прочим, это мой дом, — снова вмешался наш изумительно однообразный в своих репликах господин и повелитель. — Вы, как видно, просто выбросили это из головы, всей компанией взяли и запамятовали, а вообще, это мой дом. Мой и ничей больше.
Я думал, все это кончится так, как оно бывает обыкновенно: все расплачутся, а потом в обнимку отправятся в кухню ставить воду на чай и будут мучиться, как бы пройти в дверь, не выпуская друг друга из объятий, и выхватывать друг у друга чайник:
— Я поставлю!
— Нет, давай я!
— Нет, ты устал сегодня, позволь мне!
Ну и так далее. Но Анни сказала:
— Ну, бывайте! Профессор, не затягивайте со срисовыванием узоров с окон, уже осталось мало времени до весны.
Мне показалось, что в этот момент Ланцелот фыркнул в кулак.
— Пожалуйста, не уходи, — вдруг подала голос Лидия. — Если ты уйдешь, то и нам придется.
Анни внимательно посмотрела на нее своими маленькими светлыми глазами и передернула плечом.
— Да перестань, — сказала она. — И вообще-то говоря, что тут такого.
Анни погладила по ушам пса, лежавшего в огромном кресле возле самой двери и так надсадно скулившего, как будто в доме кто-то умер, поцеловала его в макушку, а потом помахала всем нам рукой, задорно, широко, как будто мы были очень далеко от нее, как будто она забралась на вершину какой-нибудь неприступной горы и хвасталась, какая она сильная, а мы стояли у подножия и восхищались ею. Наконец она защелкала замком и вышла на улицу, расправив плечи, словно бы радуясь свежему воздуху, — а прикрыть за собой дверь не смогла, потому что в щелку забилась кисточка от тряпичного половика, одного из тех, на которых наш хозяин просто помешан. Но она не стала с этим разбираться и ушла, ушла совсем, и когда хозяин приблизился к двери и осторожненько так за нее заглянул, на тропинке, протоптанной через двор, уже никого не было.
— Зачем это, дорогой друг, вы туда глядите? — поинтересовался я. — Проверяете, эффектно ли у вас получается фокус с исчезновением?
— Я коврик хочу поправить, — пробубнил он в ответ.
— А вы на меня, уж пожалуйста, не огрызайтесь, — сказал я. — Вы сегодня вели себя скверно, пошло, непозволительно. И мы все очень в вас разочарованы. Остается только надеяться, что она вас простит и вернется.
Я действительно был убежден в том, что так оно и получится. Все эти темпераментные молодежные скандалы кончаются одинаково, в этом и заключается их прелесть. Может показаться удивительным, что я так настойчиво вмешивался в происходящее, но меня так утомляет и огорчает все, что разрушает уют. Когда я состарюсь окончательно, я буду без обиняков называть это боязнью перемен. Но пока еще в этом ужасе перед расшатыванием мироздания в земле, которая пенится у самых его корней, есть что-то высокое, даже философское; он пока еще не превратился в примитивный инстинкт. Картины должны висеть на своих местах, цветы сменяться в кувшинах, одна чашка кофе следовать за другой, после трех часов дня это должны быть чашки с чаем, а после десяти часов вечера в чашки с чаем должна добавляться мятная заварка. Эта олимпийская эстафета кипятка — единственная по-настоящему важная вещь в мире, она обеспечивает временны´е закономерности между событиями. Уход Анни, как некогда и ее приход, вызвали колебания в драгоценной паутине быта, лишили наше существование безмятежности, которая одна только и делала его сносным. Мое настроение было безнадежно испорчено, когда выяснилось, что Анни, как видно, и не думает возвращаться. Все вокруг изображали, что были совершенно уверены в этом заранее, и их унылый и всезнающий надутый вид казался мне просто верхом дурного тона.
— Почему он ничего не предпринимает? — спросил я Ланцелота за чаем. — Он что, не собирается ничего предпринимать?
— Не рыпался бы ты уже, — отвечает он в своей харизматичной бандитской манере. — Не видишь, они всё уже промеж себя решили, а наше дело — сторона. Ее нынче и не найти нигде, а он сидит себе и сидит на чердаке, в окно глядит и доволен. От пива отказывается, от вискаря отказывается, а уж чего еще ему, я и не знаю. Не надо ему ничего, вот мое мнение. Господь милостив, он хоть перестал ошиваться в мастерской и хреначить нам по мозгам всеми этими молотками и дрелями. Тишина и покой!
— Ланцелот, вы эгоист и свинья, — объявил я, и не знаю, когда еще в своей жизни я был более точен и справедлив, чем тогда.
— На себя посмотри, только очки не забудь надеть, — отозвался Ланцелот. — Эгоист, ничего себе!
С научной точки зрения совершенно необъяснимо, чем именно обусловлен этот нетипичнейший симбиоз и с какой стати я терплю его выходки. Может, меня забавляет то, что он не знает слова «эгоист», а повторяет. Может, он напоминает мне моих студентов, и потому мне иногда мерещится, что я не могу без него обходиться. Может, я должен быть благодарен за Ланцелота судьбе, и весь азарт ситуации заключается в том, когда же я до этого додумаюсь. Во всяком случае, тут наверняка кроется нечто весьма поучительное.
Если бы на дворе стояла осень, я бы мог пойти погулять, но теперь, как назло, февраль и самый гололед. Я очень боюсь поскользнуться и упасть; у меня и без того ужасно болят колени в такую