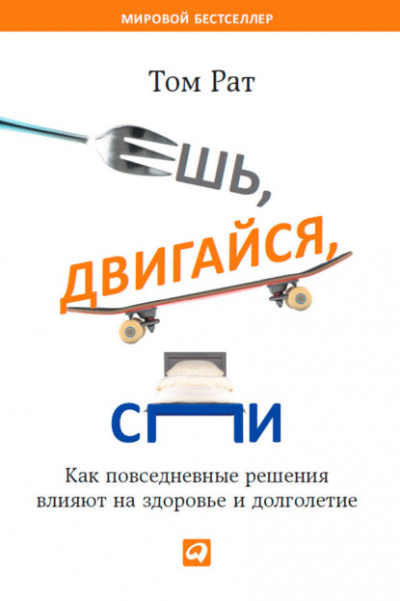Теорема тишины - Александр Дэшли
А до тишины еще так далеко! Мне было слышно, как где-то в глубине леса дикие пчелы мрачным, темным облаком гудят вокруг своего дупла. Мне было слышно, как разговаривают птицы в ослепшем от солнца сентябрьском воздухе. Я люблю осень еще и за то — за то, что они не поют, а разговаривают, как люди, суетятся, задергивают поплотнее ветви, вешают замки, готовятся к ежегодному сбору, готовятся решать, куда им лететь: может, черт с ним со всем, — махнуть к Солнцу, или к Южному Кресту, или в другую галактику, а может, и по старинке обойтись, слетать в Турцию, поесть персиков считай что задарма. Можно вот так сидеть целый день на земле, подставлять листопаду теплые щеки и слушать паузы между их разговорами, а по светлому небу над тобой, как листья по осенней реке, будут проплывать незримые дневные созвездия и самолеты.
По ночам страшно, потому что во всем просыпается звериная сущность; боярышник скребется в крышу, как озябший дракон, а ведь еще днем он был пылким стареющим рыцарем в серебряных латах, летучие мыши и совы делают темноту непроглядной, ежи в закоулках укутанных хвоей подвалов жгут свои подпольные свечи, шепотом ведут полуночные запрещенные разговоры. Кто я такой в этом лесу и почему так настойчиво допрашиваюсь этого неприступного «здесь»? Качели, которые я повесил за домом на дуб, качаются и скрипят, ветер неумолимо заносит книгу в руках Лидии алой виноградной листвой, осенний комар, неуловимый враг-побратим, неторопливо грызет ее прекрасный сахарно-белый локоть, и кошка, крадущаяся за домом, нечаянно наступает на камешек; шорох будит Анни в ее высокой комнате, в колыбели тишины, которую мгновение назад качала чья-то рука. Незаметно для глаза в доме пускают побеги грядущие зимние ветра.
Однажды в середине сентября я решил спуститься к реке и наловить рыбы на ужин. Я надел старую теплую рубашку и почувствовал, как противно она пропахла подсолнечным маслом. Лидия в кухне с сигаретой в зубах мариновала зеленые помидоры — красный перец, белый чеснок, голубоватые банки, — и заставила меня попробовать один помидор из той партии, которую она закатывала месяц назад. Ледяной маринад больно щипал пальцы и нёбо.
— Так же сделать или поострее? — спросила Лидия.
— Так же, — отвечаю, и вдруг спрашиваю: — Лидия, а вы написали хоть одно стихотворение за то время, что вы здесь?
Она пожала плечами.
— Нет. А зачем это тут? Я еще сделаю вам к чаю яблочную пастилу, хотите? Я ее разложу в эти вот симпатичные беленькие блюдечки, вам ведь они пока не нужны?
«Странно», — подумал я. Странно.
Я вышел на крыльцо, заставленное резиновыми башмаками всевозможных размеров, и поду-мал, что летом по обуви сразу было видно, кто есть кто. А теперь все ходят в калошах и сапогах — и дело с концом. И все равно даже в сапогах выходишь в сад и тут же поскальзываешься на раскисшем яблоке или кленовом листе. В Ланцелотовых калошах, самых огромных, сидела крохотная синичка и что-то ворчливо бормотала себе под нос, а потом испугалась меня и улетела. И во всем она, осенняя неустойчивость, которую я люблю больше всего на свете, без которой не смог бы удержать равновесие на этом обрыве мой дом.
Когда я спустился к реке, оказалось, что на том берегу уже кто-то есть. Я насторожился и принялся щуриться сквозь желтую дымку высохшей травы, оскорбленно, как дикий зверь, пришедший на водопой и испуганный охотником. Мне было неприятно, что бесшумные золотые склоны моей реки таят от меня чье-то присутствие. Вот кто-то звонко взмахнул удочкой, оглушительно щелкнул в воздухе поплавок, безбожно, цареубийственно по отношению к моей тишине, и в воду посыпались капли с лески и вдруг смутили засыпающую реку тревожными письменами брызг. Я был прямо-таки разозлен, разозлен не на шутку! Одного такого вот щегольского росчерка удочкой достаточно, чтобы по хрупкой сфере безмолвия, повторяющей очертания земли, пошли трещины, похожие на ветви старого зимнего дерева, и мир стал таким, каким его изображают на картинках в книгах о языческой древности.
А все-таки ничего с этим поделать было нельзя. Выйдя из леса на берег, я увидел, что это всего лишь Анни, — она удобно сидела по-турецки на другом берегу под высоким дубом, который склонялся над ней роскошной красноватой тенью, как сумрачный свод вечернего собора. Казалось, что Анни так и сидела под этим дубом всегда, не двигаясь с места, ничего не говоря. Но вот она меня заметила и машет мне рукой…
— Привет! — и вся река слышит ее голос, хотя она вовсе не кричит; так я понимаю, что наконец-то дождался именно той тишины, о какой мечтал, — совершенной.
— Привет, — отвечаю я. — Как это вы там очутились?
— Да я же говорила, тут мост недалеко. Ты разве не знал? Перебирайся ко мне скорей, нам все равно надо сходить в поселок за кофе. Тот, что мы пьем в последние дни, — кошмарная отрава!
Я подумал и сказал:
— И еще мыло кончилось.
Потом подумал еще чуть-чуть и спросил:
— А тут разве есть поселок?
Анни снова замахала мне рукой.
— Скорее, перебирайся сюда!
Я прошел вниз по течению несколько шагов и с удивлением увидел, что там и в самом деле есть мост: заросший травой, покосившийся, с огромными дырами, через которые были видны камни на мелком речном дне, — но это был мост, и я никак не мог понять, как же я его не замечал раньше. Я ступил на него недоверчиво, тут же поскользнулся и чуть не упал, но вовремя ухватился за холодные влажные перила, покрытые мхом. Анни на том берегу заливисто захохотала гулким разбойничьим смехом.
— Ну и вид у тебя! Чего это ты так нахмурился? У тебя брови аж на нос наползли!
— Я не привык, — сказал я, пытаясь понять, почему мне так не по себе. — Не привык, чтобы надо мной смеялись.
— Да перестань. Давай руку!
Анни отложила удочку, подошла к противоположной стороне моста, больно схватила меня за локоть и помогла выбраться на крутой склон.