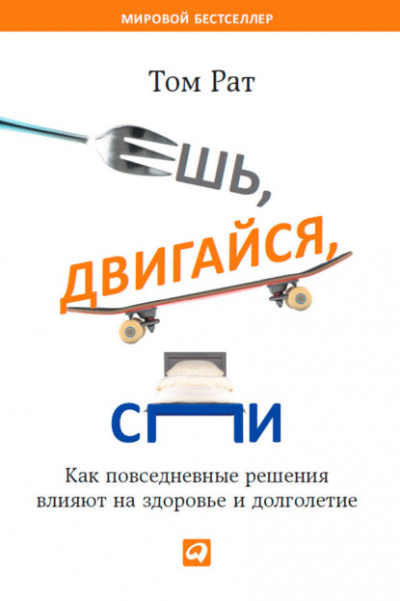Колодец - Абиш Кекилбаевич Кекилбаев
Когда терпенье его иссякало, он седлал коня и отправлялся на охоту. В степи, где косяком паслись косули, в низинах, где обитали дикие козы, в оврагах и ущельях, где водились архары, в лощинах, по которым все они ходили на водопой, Енсеп ставил капканы. Но и это не отвлекало его от невеселых дум, не снимало тяжести с сердца. Он не высматривал зверя — высматривал места, где могла бы быть вода. Он изучающе оценивал, в каком направлении тянутся хребты и перевалы, где и как перекрещиваются ручьи и овражки, каков травяной покров. Он то и дело слезал со своей неприглядной лошадки, ручкой камчи разрыхлял землю, разглядывал почву на ладони. В горах его привлекали не архары, а удобные тропы для перевозки камней, необходимых, чтобы укрепить стенки колодца.
Редко Енсеп возвращался домой с добычей. Но он утешал себя: уж лучше по степи и горам мотаться, чем целыми днями мозолить глаза жене и детям. Если в степи ему ненароком встречались охотники, он жадно расспрашивал их о новостях в окрестных аулах...
Богач Сагинай со всем своим родом, судя по рассказам, старался окончательно прибрать к рукам Калпака. Бай не допускал к колодцу «Калпак-казган» никого из других родов, шел па грубые ссоры с кочевьями, обвинял их, что они-де вычерпали всю его воду и истоптали его пастбище. Он приказал избить двух чабанов бая Байсала за то лишь, что они осмелились напоить своих овец из его колодца. С тех пор баи-соседи стали жить как кошка с собакой.
Однажды, возвращаясь после неудачной охоты, Енсеп приметил на привязи возле своей юрты чужого коня. Он не поверил своим глазам. «Не мерещится ли? Кто же это может быть?»— подумал он и погнал лошадь быстрее. Чем ближе к аулу, тем сильнее колотилось сердце Енсепа. Судя по коню и сбруе, гость был из людей состоятельных.
Через открытые решетки юрты Енсеп узрел жирный затылок бая Байсала.
Байсал приветливо поздоровался с Енсепом. К делу он перешел не сразу, а лишь поведав о новостях в аулах и поинтересовавшись житьем-бытьем енсеповского аула. Енсеп для угощения зарезал полугодовалого барашка, радушно ухаживал за гостем.
Собравшись отъезжать, Байсал произнес как бы между прочим:
— Может, проводишь меня, Енсеп, вон до того перевала?
— Охотно,— засуетился Енсеп.
Миновали аул, и тут бай повел речь о главном:
— Ты, Енсеп, наверное, уже наслышан о том, что Сагинай самовольно присвоил себе широкий путь, по которому испо- кон веку кочевали наши предки. У нас, сам знаешь, никогда не было ни ругани, ни распрей из-за этой дороги. Теперь Сагинай грызется, прямо-таки лается с каждым, кто проезжает там. Пусть другие цапаются с ним, а мне, признаюсь откровенно, не хочется унижаться ссорой с этим вонючим ублюдком. И вот задумал я неподалеку отсюда, по конской тропе, проложить новый путь для кочевок, Сегодня я там проехал и убедился, что местность вполне подходящая, тихая. Пастбища сносные, тропа не очень узкая. Одна беда: сразу же после отрогов на расстоянии двухдневного пути вода есть, а дальше — сплошь пустыни. Где-то на полпути позарез нужен колодец, чтоб во время кочевок напоить скот...
Байсал круто оборвал речь и уставился на Енсепа. Сделав внушительную паузу, добавил:
— Весеннюю стрижку овец мне хотелось бы провести у нового колодца...
Растерявшийся от счастья Енсеп молчал.
Байсал простился. Его крупный соловый конь удалялся все дальше и дальше и постепенно слился с порыжелой осенней степью. Енсеп неотрывно, до рези в глазах, смотрел ему вслед. Байсал, исчезнувший так неожиданно и скоро, казался ему добрым привидением.
Опомнившись, Енсеп повернул лошадь в аул. Вдруг ему почудилось, будто кто-то его окликнул. Он похолодел. Его пронзила мысль: Байсал передумал, перерешил. Он медленно обернулся: бай уже поднялся на черный холм у самого горизонта. Немного погодя Енсеп еще раз глянул назад — бай спускался по косогору; еще мгновенье, и он скрылся совсем...
Енсеп уже смирился с мыслью, что к нему никто и никогда не обратится больше с заказом. Он втайне мечтал: если ему еще суждено будет заняться своим проклятым — и единственно любимым — ремеслом, он сделает колодец всем на удивление, на славу себе. Эта мечта долго — и увы! — бесплодно жила в нем. Сейчас, когда он мог осуществить ее, нахлынули сомнения: а сможет ли он, способен ли он еще потрясать людей?
Енсеп целыми днями не слезал с коня. Обшарил каждый кустик в окрестности, что указал Байсал, объездил все лощины, холмы и низины, Енсеп ушел в себя, замкнулся, почти не разговаривал с домашними. Иногда, сидя за дастархапом, ставил пиалу с чаем перед собой, упирался подбородком в колено и, отрешаясь от всего, что его окружало, задумывался. Он долго прикидывал, сомневался, рассчитывал. Наконец выбрал место. Он обращался за советом к старикам, чтобы не обидеть их и избежать всяких кривотолков. Однако не прислушался к их мнению, поступил по-своему.
Над колышком, который Енсеп вбил в землю, бай Байсал поставил юрту и прислал мастеру в помощь четырех джигитов. Ночью перед началом работ Енсеп нс сомкнул глаз.
За долгий вынужденный простой его руки отвыкли от дела. К тому же его сковывала неведомая ему ранее неуверенность в себе. Епсеп все стоял и стоял рядом с железным колом. Уже утихли ободряющие хвалебные слова джигитов,
которые в былые времена подстегивали самолюбивого Епсопа, заставляли его работать, пренебрегая усталостью... Да, время наложило на пего свою печать. И разве только на него? Его бойкий аргамак по кличке «А, была не была!» превратился ныне в заезженную, дряхлую клячу, которую, как ни подгоняй, ни подстегивай, не пустишь во весь опор.
Енсеп понимал — чего там лукавить перед собой!— на этот раз его толкала в алчный зев земли особая сила. Он, правда, еще не решался прямо определить болезнь, которая привязалась к нему, неотступно преследует его с той поры, как он навестил Калпака. Она, эта болезнь, терзала, подтачивала, медленно изводила его, лишая сна, доводя до неистовства. Разум, совесть его отказывались назвать своим имением точившую его болезнь. Он ясно чувствовал — она