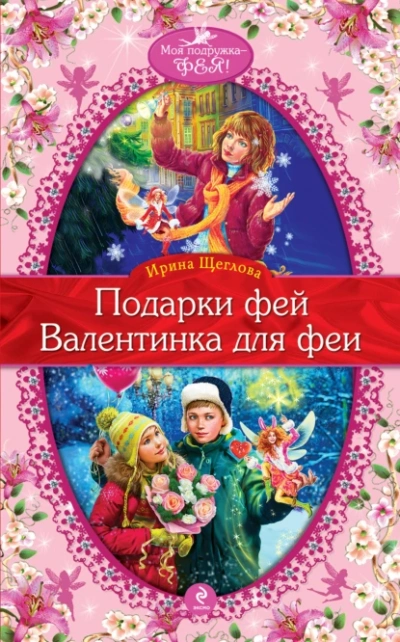История Спарты (период архаики и классики) - Лариса Гаврииловна Печатнова
Итак, вернемся к этой ключевой фразе Антиоха. Строго говоря, Антиох не называет парфениев илотами. Он только указывает, что они были (полностью или частично) урезаны в своих гражданских правах (ajtivmou» e[krinan), т. е. из полноправных граждан превратились в граждан второго сорта. Здесь же мы узнаем, что атимия парфениев была наследственной, поскольку их отцы, спартанские граждане, за отказ участвовать в Первой Мессенской войне были превращены в илотов. Таким образом, согласно Антиоху, парфении имели отцов — илотов, а матерей — спартанских гражданок.
Попробуем понять, откуда у Антиоха могла появиться версия об обращении спартанских граждан в илотов. В памяти у потомков основателей Тарента сохранились какие-то воспоминания о некоторой ущербности социального статуса своих предков. На эти воспоминания наложился уже широко распространенный, по крайней мере, к концу архаики, миф об идеальной двучастной структуре спартанского общества, в котором не было места никаким маргинальным группам. Отсюда идет версия о парфениях-рабах, ибо по этой упрощенной схеме любое понижение статуса гражданина означало превращение его в раба. Знания Антиоха о структуре спартанского общества, скорее всего, были весьма элементарны и схематичны. С другой стороны, исходя из современной ему практики, он хорошо знал, что дети свободного человека от рабыни, равно как и дети свободной женщины от раба причислялись к рабам (ср.: Arist. Ath. pol. 42,1). Такой ход мысли Антиоха или его источника и мог привести к рождению версии об илотском происхождении парфениев. В указании же на наследственную атимию парфениев можно видеть историческое зерно[658]. По крайней мере, от классического времени сохранились свидетельства о наследственном характере атимии в Спарте (Xen. Lac. pol. 9, 5). Так, бесчестие Клеандрида, присужденного к смерти за измену, сделало его сына, Гилиппа, мофаком. Это означает, что семья Клеандрида частично была лишена гражданских прав (Plut. Per. 22, 3–4)[659].
Само слово «парфении» в качестве официального термина кажется невозможным. Буквально оно означает «отпрыски незамужних женщин», которые поэтому еще считались девицами. У Гомера в «Илиаде», например, parqevnio» означает «девой рожденный» (XVI, 180). В словаре Свиды оно толкуется как «рожденные девицей до брака» (Suid. s. v.). Подобное прозвище могло быть дано в насмешку. Однако у нас есть аналог тоже из спартанской социальной терминологии, который подтверждает возможность образования новых терминов из первоначальных издевательских прозвищ. Это слово «мофон», или «мофак». В схолиях к Аристофану под movqwn имеется в виду наглый, дерзкий человек, выскочка и простолюдин (ad. Plut. 279; Eq. 634). Сам этот термин возник не ранее середины IV в., превратившись из первоначального полупрезрительного-полунасмешливого обращения в устойчивое социальное понятие. Такой путь от слова, несущего в себе элементы социальной и моральной ущербности, к новому техническому термину был вполне возможен там, где необходимо было подчеркнуть двусмысленность и неопределенность той или иной социальной группы. Г. Шефер сравнивает как явления одного порядка слово «парфении» с теми издевательскими прозвищами, которые дал Клисфен из Сикиона своим побежденным противникам (Her. V, 67)[660].
В обеих рассмотренных версиях, как у Эфора, так и у Антиоха, мы встречаем след илотов. У Антиоха илоты фигурируют в качестве отцов парфениев, у Эфора — это союзники парфениев, вместе с ними участвующие в заговоре. По-видимому, илотов-заговорщиков можно идентифицировать с таинственными эпевнактами (ejpeuvnaktoi от eujnhv — «ложе»; eujnavzw — «укладывать в постель»), о которых упоминают Феопомп и Диодор (VIII, fr. 21). Феопомп у Афинея рассказывает следующее: «Когда многие лакедемоняне погибли во время войны с мессенцами[661], то оставшиеся в живых в качестве меры предосторожности возвели некоторых из илотов на брачное ложе (ejf j eJkavsthn stibavda) тех, кто погиб; а позже, сделав их даже гражданами, они прозвали их эпевнактами, потому что те были помещены на ложа вместо погибших» (271 c-d).
Наш перевод отражает общепринятое понимание данного отрывка. Но кое-какие детали внушают все-таки сомнение в правильности его толкования. Во-первых, слово stibav». В греческом языке оно не употребляется в значении «брачное ложе». Это скорее «походный тюфяк». В любом случае это очень скромная и простая подстилка из соломы. На подобных подстилках спали спартанские мальчики в агелах (Plut. Lyc. 16, 14). Если понимать это слово как «походный тюфяк», то выходит, что илоты сменили спартиатов вовсе не на брачных ложах, а на войне[662]. В какой-то мере подтверждает подобную мысль и употребленный Феопомпом глагол katatavttw, который очень часто встречается в «военных» текстах в значении «выстраивать (войско)», «зачислять кого-либо (в отряд, в армию и т. д.)». Таким образом, конец фразы можно понимать так: «они прозвали их эпевнактами, потому что те были помещены вместо погибших на их военные тюфяки». Но такому толкованию мешает достаточно прозрачное значение слова «эпевнакты» — спальные друзья, наложники. Как снять это противоречие? Здесь есть два варианта. Во-первых, в отношении Спарты, где официально культивировалась простота и бедность во всем, в том числе и в брачных отношениях, употребление слова stibav» в значении «брачное ложе», может быть, не так уж и невозможно (ср.: Xen. Lac. pol. 1, 5). Но, скорее всего, свидетельство Феопомпа содержит в себе следы спутанной традиции, в которой вместе соединены два эпизода: первый — рекрутирование илотов в спартанскую армию вместо погибших спартиатов, и второй — массовая их женитьба на вдовах погибших[663]. О массовости явления говорит появившееся именно тогда полупрезрительное-полунасмешливое прозвище «эпевнакты», которое и засвидетельствовано нашей традицией.
По-видимому, история с эпевнактами зафиксировала какую-то действительно имевшую место в архаической Спарте практику наделения гражданскими правами неграждан, может быть даже илотов. Аристотель отметил эту особенность социальной политики архаической Спарты. По его словам, «при первых царях… права гражданства давались и негражданам (metedivdosan th"» politeiva), так что в то время, несмотря на продолжительные войны, малолюдства не было…» (Pol. II, 6, 12, 1270 a 34–36). Какие именно категории спартанского населения разделяло со спартиатами гражданство, Аристотель не уточняет. Однако в VIII в. при еще только формирующейся системе илотии грань между свободными и илотами не