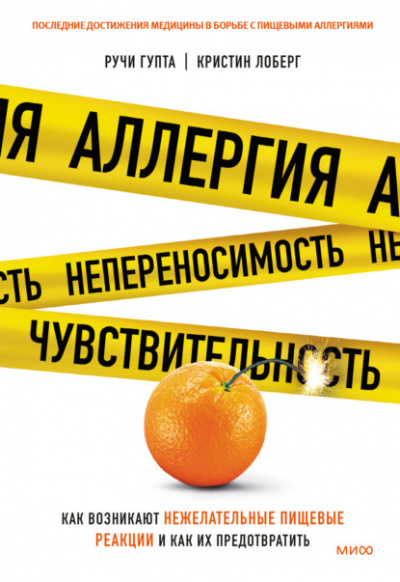Среди призраков. Рассуждение об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта - Эрик Саден
Как следствие – по-новому был определен и характер общественного пространства, во многом утративший жизненное наполнение. Еще в середине 1970-х годов Пазолини сожалел, что это пространство лишается жизни, постепенно приватизируясь и подчиняясь тенденции, когда улицы все больше приспосабливаются для пешеходов и увешиваются однотипными вывесками. Аналогичное явление в 1990-х годах привело к тому, что, как грибы после дождя, в Северной и Южной Америке, а затем и в Азии стали вырастать моллы, торговые центры, где толпы двигались вдоль огромных обезличенных галерей с целями, не отличавшимися разнообразием: потреблять, развлекаться, просто гулять, в одиночестве или со знакомыми, пить газировку из пластикового стаканчика в фастфудах, обычно освещенных назойливыми огнями. Не то чтобы «не-местá», если вспомнить концепцию Марка Оже[111] [112], скорее те места, что создают видимость совместного присутствия. Как расплодившиеся на рубеже нового тысячелетия пространства для коворкинга, куда люди идут, чтобы во времена самозанятости и официальной «удаленки» избавиться от ощущения, что ты работаешь один: там все бок о бок, – вот только параллельные прямые не пересекаются. Или заведения «Старбакс», которые в 2000-х годах размножились по всей планете, превратив кафе как исторически общественное место – парижские кафе Руссо, Дидро, Вольтера в эпоху Просвещения или венские на рубеже XX века, служившие территорией для общения, встреч, полемики, – в стандартизированную среду. Да, люди там тоже находятся в общем пространстве, но в основном смотрят в экраны (смотреть на окружающих чуть ли не запрещено) и погружены в коллективное, абсолютно ледяное состояние ухода в себя. Как при виде этого зрелища не вспомнить полотна Эдварда Хоппера, словно актуализированные в нашей пиксельной – или призрачной – жизни?
2. Всеобщая телесоциальность
Теория зума
Проделав долгий путь через галактику, единственный пассажир космического корабля в сопровождении стюардессы попадает на спутниковую станцию, которая служит перевалочным узлом для отправки к еще более удаленным пунктам назначения. По прибытии – скорый рабочий брифинг с экипажем, работающим на месте. Затем он отправляется в небольшую кабину, усаживается перед экраном со встроенной камерой, вставляет в считыватель магнитную карту и набирает номер с помощью клавиш. Почти сразу возникает изображение маленькой девочки, играющей на диване, – кажется, она рада увидеть папу. Короткий разговор – и появляется сумма для оплаты связи. Есть нечто приподнято-футуристическое в этой сцене из фильма «2001 год: Космическая одиссея», снятого Стенли Кубриком в 1968 году. Примечательно, что вероятное ближайшее будущее воплощено здесь не столько в межзвездных путешествиях, сколько в этом эпизоде, ведь уже тогда, – учитывая развитие телекоммуникаций, – можно было предположить, что не сегодня завтра все так и будет. Наши отношения с будущим хоть и отмечены сугубой неопределенностью, порой устроены так, что мы каким-то образом предчувствуем некоторые явления, но не можем точно определить, когда их ждать.
Теперь есть широкая гамма подобных способов видеосвязи – они доступны всем. В начале 2000-х годов придумали Skype, приложение для видеозвонков. Появилась возможность общаться на расстоянии через экран, формат позже повторили WhatsApp (2009) и FaceTime (Apple, 2013). Приобщиться к рукотворному чуду могли все, но вот парадокс: пользовались им лишь время от времени – в отличие от текстовых сообщений, более незаметных и ненавязчивых. Функционал помогал в семейном общении, иногда – в заграничной поездке, реже применялся для рабочих совещаний. Возможно, своеобразная нелюбовь объясняется тем, что ты предстаешь на экране как есть, без прикрас, и это мешает отстраниться, не дает чувства защищенности, которое вселяли тогда коммуникационные технологии. Только в самом начале 2020-х годов порог удалось преодолеть во время всеобщего локдауна, спровоцировавшего резкий курс на едва ли не полную цифровизацию отношений между людьми, а качество действующих систем и скорость соединения создали впечатление, что впредь, пожалуй, можно обходиться и без физического присутствия. Словно нам предложена совершенно новая форма местонахождения, непосредственная и не требующая ни усилий, ни ощутимых затрат. Казалось, что во время пандемии приложение Zoom само по себе воплощает новую эру межчеловеческих связей. Но поскольку события не терпели промедления, видимо, мы не учли, что само его название[113] имплицитно означает возможность общаться опосредованно, через экраны, а главное, неявным образом устанавливается совсем другой формат отношений.
Стоит разобраться в экономике собраний, проводимых на этой платформе (и ей подобных). Характерная особенность: люди здесь как будто подогнаны под стандарт – причем двумерный, – что де-факто помогает маскировать многомерность нашего существа. Одно дело – находиться друг напротив друга, когда все здесь, рядом, другое – в потоке изображений, что естественно подталкивает рассматривать лица, почти поедать глазами, не стесняясь и порой во всех подробностях. Способ влечет за собой скрытое овеществление другого – в том смысле, что рассматривать друг друга можно обоюдно, как если бы перед каждым из нас была вещь. Снижение остроты межличностного восприятия обусловлено двумерностью, нивелирующей объемное содержание каждого человека. Видеособрание предполагает, что сначала информацию о нем занесут в календарь, где, помимо прочего, будет указана определенная длительность. В назначенное время каждый появляется как на посту, правда, обычно видно только лицо (иногда еще и торс) в резком свете экрана. В таком контексте сразу требуется показать, что ты занят делом, выступить с презентацией, в общем, исполнить роль, но каждый раз – с риском сделать неверный шаг, который окажется виден крупным планом.
Контакты с «зум-эффектом» могут раскрыть невидимые прежде стороны других людей, настолько четко не проявляющиеся в повседневной жизни. Всё, что в обычном общении под негласным запретом или считается верхом невоспитанности – долго и пристально смотреть на собеседника в той мере, в какой подобное поведение нарушает нашу неприкосновенность, противоречит самому принципу отношений, основанных на взаимном внимании, а не методах пристрастного досмотра, – именно это мы уже взяли в привычку. Происходит нечто вроде обоюдного и ставшего общепринятым вторжения посредством мимики. В этом не столько утилитаристский подход, сколько «реляционный редукционизм», все более свойственный трудовым отношениям. Типичный пример – опенспейс: как будто бы все бок о бок, чуть ли не лучшие друзья, а на самом деле каждый занят своей задачей и испытывает унизительное ощущение общей наготы, заставляющее искать мелкие ухищрения, чтобы укрыться от взглядов коллег, а это – путь к скрытым формам замыкания на себе.
Если присмотреться, видеоконференции,