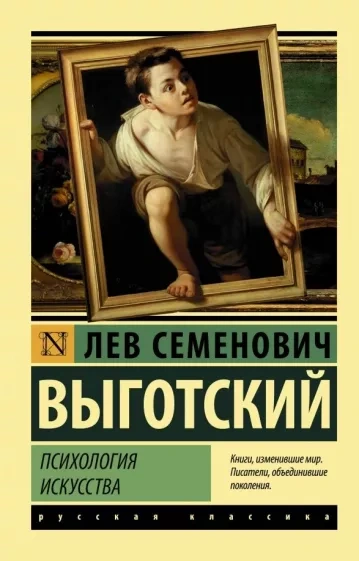Герой в преисподней: от мифа к Twin Peaks. Эссе - Дмитрий Николаевич Степанов
Когда один из персонажей «Ловца» бросает ему: «Эх, черт бы тебя подрал!.. Никогда ты ничего не сделаешь по-человечески. Никогда!» («You don’t do one damn thing the way you’re supposed to. I mean it. Not one damn thing») – он выражает чуждость Холдена не «человеческому, слишком человеческому», а все той же обывательской преисподней – «ни одной чертовой вещи ты не сделаешь путем, ни одной чертовой вещи», – «мертвым душам», тем самым манекенам, чуждость которым так остро ощущал герой рассказа «Голубой период де Домье-Смита»: «… Как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем в саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где парит безглазый, слепой деревянный идол – манекен, облаченный в дешевый грыжевой бандаж. Непереносимая мысль – хорошо, что она мелькнула лишь на секунду».
Сталкиваясь со всевозможными damn things в ходе своего «инфернального» путешествия, Холден Колфилд неизменно повторяет сакраментальную фразу «it killed me». Он фантазирует о собственной смерти: «Я и подумал – видно, у меня начинается рак. Да, веселенький журнальчик, ничего не скажешь! Я его бросил и пошел прогуляться. Я высчитал, что, раз у меня рак, я через два-три месяца умру. Серьезно, я так думал. Я был твердо уверен, что умру. И настроение от этого не улучшилось, сами понимаете».
Подвергшись побоям со стороны сутенера Мориса – побоям, в которых угадываются инициационные «ордалии», – Холден вновь переживает свою смерть: «Я не потерял сознание, потому что помню – я посмотрел на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери… Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону, так у меня дыхание перехватило – никак не вздохнуть». Придя в себя, «ловец» продолжает фантазировать в том же инициационном контексте: «По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Морис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную за добрым глотком виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать… Иду, держась за перила, а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол… А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пуля. Я сидел один в баре, с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что я ранен». Раненый герой – очевидный мифологический образ, связанный с ритуалами инициации (ср. с образом раненого Одина, висящего в ходе инициации на Древе Иггдрасиль, или с мифологической этимологией латинизированной формы имении Одиссея Ulysses, связывающей ее со словом oulos – «рана»).
Все эти инициационные мотивы представлены в романе в комическом свете, что вовсе не отменяет их посвятительной сути. Блестящее описание инициации героя на комическом материале дал уже Апулей в своих «Метаморфозах». И образ обывательского ада, и характерные «низовые» герои и сам Холден как плут и враль восходят к комической традиции, выраженной в античной комедии, в тех же апулеевых «Метаморфозах», плутовском и «комическом» романе.
Главный упрек Холдена Колфилда окружающему его миру («Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал») коррелируется с устойчивым лейтмотивом плутовского романа (ср., например, со словами из «Гусмана де Альфараче»: «Все идет наоборот, всюду подделки и обман. Человек человеку враг; всяк норовит погубить другого…»). Самоописание Холдена соответствует традиционному портрету героя «комического» романа. Он – простак, плут и проходимец, свободный от условностей окружающего его мира, как все тот же Симплициссимус. Ловец во ржи признается, что он «умственно отсталый, вообще кретин», что он «ужасный лгун – такого вы никогда в жизни не видали». Его мотивация («Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно») – это типичная мотивация героев европейского «комического» романа. Красная охотничья шапка Колфилда – это одновременно и головной убор «ловца людей» («В ней людей стреляют, я в ней людей стреляю»), и – надетая задом наперед – шутовской колпак.
В комическом свете представлены этапы инициации Холдена Колфилда. Они не приобщают его миру, а отчуждают от него. Характерен эпизод с проституткой Сани. Холден теряется в незатейливой ситуации, заслужив от девушки нелестное «Дурачок». В этой связи трудно не вспомнить об эпизоде из романа Кретьена де Труа «Персеваль», где герой столь же невпопад ведет себя с девушкой из шатра, награждающей его прозвищем «Валлиец глупый». Такое поведение Персеваля знаменовало его доинициационный статус простака и «дурачка». В «Ловце» подобный эпизод знаменует отчужденность Холдена от того мира, в котором он пребывает. Приобщить его миру мог коитус, как приобщило миру людей хтонического побратима Гильгамеша Энкиду соитие с храмовой проституткой. Но юноша отказывается от секса, и вся сцена завершается «избиением» Холдена и его комическим переживанием смерти.
Не приобщает Холдена к миру людей и разговор с его учителем мистером Антолини, играющим в романе роль «мастера инициаций». Наставник предупреждает ученика: «Мне кажется, что ты несешься к какой-то страшной пропасти… Пропасть, в которую ты летишь, – ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца». Он призывает Холдена примириться с окружающими его людьми, но подросток бежит от учителя, заподозрив того в грязных помыслах.
От бездны Холдена спасает его маленькая сестренка Фиби. Ловец порывается бежать на Запад, Фиби вызывается ехать вместе с ним. Холден пугается и, пытаясь «спасти» сестренку, «спасается» сам. Фиби, таким образом, играет в романе роль «чудесной девы». Тот факт, что в сознании Сэлинджера образ «чудесной девы» ассоциировался с невинной девочкой, не является секретом для знатоков его творчества. Впрочем, большинство специалистов связывает такое отношение JDS к юным девушкам с его несчастной любовью к Уне О’Нил, что в корне неверно. Во всех своих отношениях с девушками после войны он искал не Уну, а все тот же образ «чудесной девы», способной спасти его от той преисподней, в которую он был заключен.
Напомню, что до Уны Сэлинджер был невероятно впечатлен венской девочкой с волшебными невинными глазами. По словам Ричарда Стейтона, «момент, когда он завязывал шнурки коньков молодой девушке, был одним из самых замечательных моментов жизни Сэлинджера. После этого он пережил чудовищную войну, а в конце войны узнал о том, что девушку, которой он надевал коньки, отправили в концентрационный лагерь и убили». В рассказе «Знакомая девчонка» Сэлинджер описал, что именно привлекло его в ней: «Огромные невинные глаза, казалось, вот-вот прольются от избытка ясности и чистоты». Вот эти светозарные волшебные глаза он и пытался найти в своих избранницах. Ему казалось, что он находил их, но всякий раз за «просветлением» следовало разочарование. Поэтому все его героини после Фиби не примиряют героев с миром, а выталкивают их из него, подобно сестренке Тедди, подтолкнувшей юного вундеркинда в бездну.
Инициационная концовка романа Джерома Дэвида Сэлинджера, как будто примиряющая Холдена Колфилда с окружающим его миром, столь же неоднозначна, как и весь «Ловец во ржи». Пребывающий в санатории (характерная метафора иного мира, ср. с образом санатория в «Волшебной горе») подросток признается скорее в собственной неопределенности относительно своего будущего в этом мире: «Многие люди,