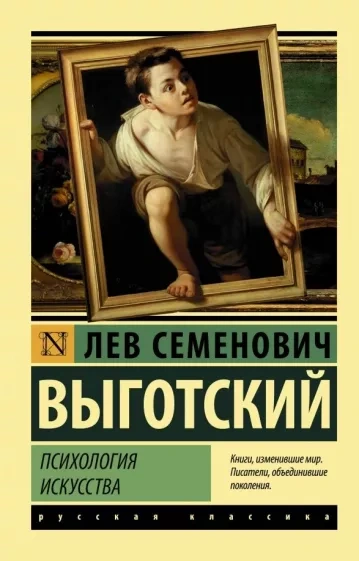Герой в преисподней: от мифа к Twin Peaks. Эссе - Дмитрий Николаевич Степанов
Дневная красавица.
В «Дневной красавице» невозможность любви выражена предельно ясно – героиня Северин игнорирует любящего мужа и придается опасным «забавам» в одном из городских борделей. Опасными эти «забавы», сочетающие секс и насилие, оказываются для ничего не подозревающего мужа – он становится жертвой покушения одного из клиентов его жены.
«Тристана» изображает судьбу девушки-сироты, ставшей жертвой любви ее опекуна дона Лопе. Последний называет себя в фильме «отцом и мужем» Тристаны. Она бежит от него, но вследствие болезни возвращается к нему, становясь, по сути, его заложницей. Вся эта невозможная любовь оборачивается смертью дона Лопе, смертью, к которой приложила руку сама Тристана.
В картинах «Ангел-истребитель» и «Скромное обаяние буржуазии» мотив невозможности любви представлен метафорами. В «Ангеле-истребителе» группа буржуа после ужина не может покинуть гостиной. Они не могут сделать того, что желают, хотя нет никаких видимых причин не выполнить желаемое. «Я вижу в фильме людей, – писал Бунюэль, – которые не могут сделать то, что им хочется, то есть выйти из комнаты. Им не удается исполнить простое желание. Так часто бывает в моих фильмах. В „Золотом веке“ пара не может воссоединиться. В фильме „Этот смутный объект желания“ речь идет о неспособности стареющего мужчины удовлетворить свое желание… Персонажи „Скромного обаяния“ хотят любой ценой вместе отужинать, и это им не удается».
Пожилой герой фильма «Этот смутный объект желания» влюбляется в молодую девушку. Она как будто отвечает ему взаимностью, но в минуты близости отказывает ему в сексе. Вся эта невозможная любовь сопровождается угрожающими террористическими актами и убийствами. О своей работе над этой картиной Луис Бунюэль вспоминал: «Раскрывая… историю невозможности обладания женским телом, я стремился на протяжении всего фильма создать атмосферу покушений и отсутствия безопасности, которая мучит нас всех, где бы мы ни жили». Но всех ли мучит атмосфера опасности в любви? Или это переживание прежде всего обусловлено личным опытом режиссера?
Мир сновидений для Луиса Бунюэля имел не меньшее значение, чем реальный мир. Более того, он предпочел бы жить одними сновидениями, пробуждаясь ото сна лишь для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма. Очевидно, что та самая невозможность любви, что в той или иной форме выражалась во всех его фильмах, проявлялась так или иначе в сновидениях Бунюэля. «Во сне, – признавался режиссер, – и, думаю, тут я не одинок, мне никогда не удавалось насладиться любовью. Причина? Посторонние взгляды. В окне напротив комнаты, где я находился с женщиной, всегда были люди, они смотрели на нас и улыбались. Мы меняли комнаты и иногда даже дома. Тщетно. Те же насмешливые, любопытные взгляды преследовали нас. В самый решающий момент я вообще терял способность любить».
Мучительное переживание сексуальной близости, омрачавшееся бессознательным чувством опасности и угрозы, в конце концов привело Бунюэля к убеждению: «Долой любовь! Да здравствует дружба!» Действительно, дружбе с Федерико Гарсиа Лоркой и Сальвадором Дали режиссер посвящал более теплые слова, чем любви к своим женщинам. Он отстаивал эту дружбу и даже напал на пассию Дали Галу, когда почувствовал, что та разрушает их дружбу. По свидетельству Бунюэля, после знакомства с Галой «Дали невозможно было узнать. Мы больше не понимали друг друга. Я даже отказался работать с ним над сценарием „Золотого века“. Он говорил только о Гале, без конца повторяя ее слова… Однажды вместе с женой рыбака Лидией мы отправились на пикник в скалы. Показав Дали на пейзаж, я сказал, что мне это напоминает картину Сорольи, довольно посредственного художника из Валенсии. Охваченный гневом, Дали закричал: „Как можешь ты нести такой бред среди столь прекрасных скал?“ Вмешалась, поддерживая его, Галя. Дело оборачивалось скверно. В конце пикника, когда мы уже изрядно выпили, не помню, по какому поводу, Галя снова вывела меня из себя. Я резко вскочил, схватил ее, бросил на землю и стал душить… Стоя на коленях, Дали умолял меня пощадить Галю. Несмотря на весь свой гнев, я не терял над собой контроля… В конце концов я отпустил ее. И она через два дня уехала».
Снимая «Дневную красавицу».
Бунюэль никогда не задумывался о причинах такого своего поведения, не анализировал своих сновидений и кинокартин, выражавших представление о невозможности любви. Он принимал свое творчество таким как оно есть и потому не раскрыл его истоки – психотравмирующую ситуацию, в которое наслаждение (в частности, сексуальное) соединилось с болью и угрозой. Какой могла быть такая ситуация, можно судить по случаю Михаила Зощенко. В младенчестве он пережил психотравму, оставившую неизгладимый след в его душе. «Ужасный гром потряс всю нашу дачу. – вспоминал Зощенко. – Это совпало с тем моментом, когда мать начала кормить меня грудью. Удар грома был так силен и неожидан, что мать, потеряв на минуту сознание, выпустила меня из рук. Я упал на постель. Но упал неловко. Повредил руку. Мать тотчас пришла в себя. Но всю ночь она не могла меня успокоить». Прочная ассоциативная связь любви с угрозой и опасностью осталась у Зощенко на всю его жизнь. Она не только проявлялась в его отношениях с женщинами, но и определила все его творчество. Так, наиболее известный его рассказ «Аристократка» – не что иное, как комическое выражение бессознательного представления об опасности любви.
В отличие от Зощенко Бунюэль не стал погружаться в бездны собственного бессознательного, чтобы понять самого себя. Его сновидения, в которых он не мог достичь сексуального удовлетворения, сцены и фразы из его кинокартин – в частности, сцена убийства мальчика и реплика героини из «Золотого века» «Какое счастье убить своего ребенка!» – могут навести на мысль, что в детстве Луис стал свидетелем коитуса и был за это жестко наказан. Но все это – лишь домыслы.
В действительности Бунюэль всю жизнь страдал от этой мучительной связи секса с опасностью и угрозой. При этом он всегда грезил о чистой любви без всевозможных препятствий и уловок a la де Сад. Так, он рассказывал об одном чудесном сновидении: «… другой сон поразил меня еще больше. Я увидел сияющую добротой, с протянутыми ко мне руками Святую деву. Я видел ее совершенно отчетливо. Она говорила со мной, злобным атеистом, с огромной нежностью, под звуки хорошо различимой музыки Шуберта. Снимая „Млечный путь“, мне захотелось воспроизвести этот образ. Но получилось куда слабее, чем во сне, где я стоял коленопреклоненный, с глазами, полными слез, внезапно ощутив, как меня переполняет трепетная и непоколебимая вера. Помнится, когда я проснулся, мне потребовалось две-три минуты, чтобы успокоиться. Еще не пробудившись окончательно, я продолжал шептать: „Да, да, Святая дева Мария, я верую“. И сердце мое сильно колотилось».
Это сновидение выразило не только неистовое стремление режиссера к любви, но и к вере. С Господом Богом у Луиса Бунюэля были особенные отношения. Еще с детских лет он критически отнесся к вере. «Мне казалось, – вспоминал режиссер, – совершенно невероятным, чтобы мертвые всех времен и народов внезапно поднялись из чрева земли, как это изображалось на средневековых картинах, для последнего воскрешения. Я считал это абсурдным, невозможным. И спрашивал себя: где могли бы сгрудиться эти миллиарды миллиардов тел? И еще: если есть Страшный суд, к чему тогда другой, тот, который следует тотчас за смертью и который в конечном счете является окончательным и бесповоротным?»
Размышляя подобным образом о посмертном существовании, юный Бунюэль после смерти отца видит его призрак и даже пытается защититься от него с помощью револьвера: «Все легли спать, а я остался у его тела… Я выпил немного коньяка, и вдруг мне показалось, что отец дышит… Я… увидел отца, с очень сердитым видом протягивающего ко мне руки. Эта галлюцинация – единственная за всю мою жизнь – длилась