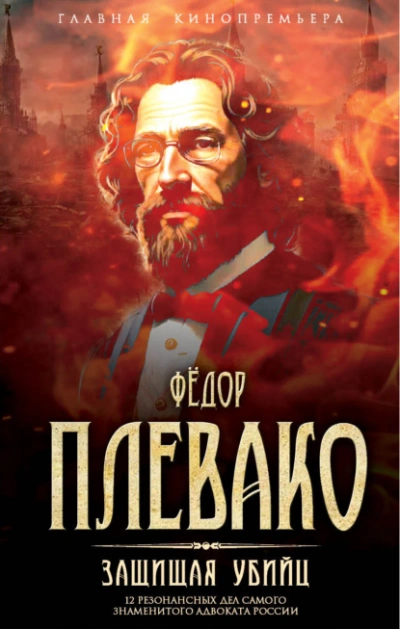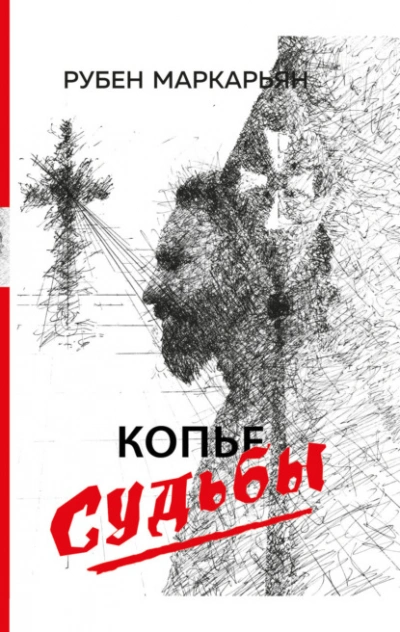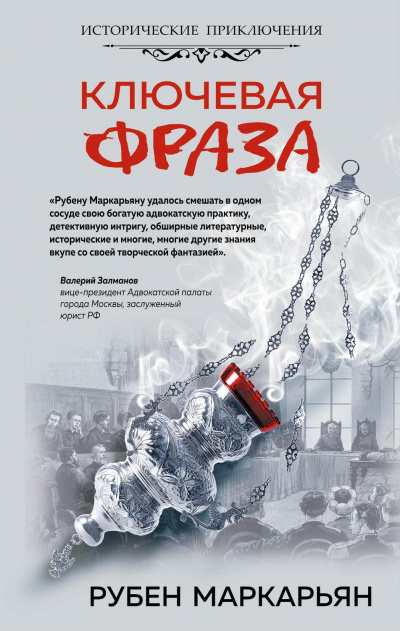Суд присяжных. Особенности процесса и секреты успешного выступления в прениях - Рубен Валерьевич Маркарьян
Каждое уголовное дело, особенно в части произнесения речи, дает возможность проявить свою творческую натуру. Но чем отличается художник, умеющий рисовать яблоко, от художника, могущего продать свой рисунок задорого, да так, чтобы им восхищались? Элементом чего-то нового, что и принято называть творчеством, а не ремеслом. Мне довелось познакомиться с одним художником, работающим в стиле гиперреализма. Его произведения, написанные маслом, были настолько реалистичны, что казались нереальными. Что-то в них такое было, что позволяло сказать: это не картина на холсте маслом, это фотография, усиленная цветофильтрами «фотошопа». На выставке его произведений, бывало, даже коллеги по цеху подходили поближе и пытались сковырнуть слой краски, чтоб понять, что это не фотография, а картина.
Я спросил: «В чем ты видишь необходимость так тщательно выписывать каждую прожилку на листочке или каждую капельку росы на травинке?? Ведь в XXI веке есть цифровая фотография для этого?»
Он отвечал: «Фотография не покажет того, что я пишу. Я выставляю на описываемые предметы (ягоды, фрукты, цветы и т. п.) свет так, каким он не бывает в природе. Солнце светит либо отсюда, либо отсюда. Лампы на потолке освещают предмет сверху, окно сбоку… Я выставляю юпитеры со всех сторон, чтобы показать внутренний свет и именно его отобразить. Я называю это Божественным светом, то есть хочу показать тебе знакомое яблоко, но так, как ты его никогда в природе не видел. Не все это видят, конечно, и иногда обо мне говорят как о художнике без фантазии. Поэтому иногда я позволяю себе похулиганить, рисую, например, персик на столе, а отражается на поверхности стола тот же персик, только с гнильцой или плесенью.»
Каждый оратор должен обладать фантазией. Это качество, врожденное у каждого человека, разве в детстве кто не отстреливался от «Фоккеров», сидя в коробке из-под телевизора, изображая стрелка «Ил-2»? Или не прыгал со стула на кровать, так, чтобы не упасть в кипящую лаву? С возрастом наша фантазия отнюдь не развивается, а наоборот, сходит к минимуму. И без должной тренировки может совсем исчезнуть, освободив место сухим словосочетаниям о статьях закона и его применении, о голых фактах и их роли в юридической квалификации деяния. От такой речи присяжные не заплачут, а уснут. А судебному оратору надо, чтобы плакали там, где надо бы заплакать! Но, как говорил Гораций: «Плачь сам, если хочешь, чтобы я плакал».
И как говорил в своей замечательной книге «Искусство речи на суде» П. Сергеич: «Вы любите людей, вы чувствуете поэзию жизни, вы хотите быть оратором-художником. Возьмите у секретаря ваше дело в истрепанной синей обложке, положите его у себя на столе и вечером, в тиши своего кабинета, прочитайте его не спеша; прочитайте раз, другой, третий. На каждой странице, где-нибудь в уголке, вы заметите несколько букв: это называется скрепою следователя. Читайте дело, и пусть на каждой странице его явится ваша скрепа, загорится и засветится ваша мысль и ваше чувство; и если, перелистывая его измятые страницы, вы на минуту станете поэтом, если раскинутся над вами пламенные ветки волшебного дерева, распахнутся крылья божественной фантазии, не бойтесь этой минуты! – придя на суд, вы скажете вашим слушателям настоящую речь».
6.4. Построение речи
6.4.1. О письменной подготовке. Как уже говорилось прежде, лучший экспромт – экспромт, заготовленный заранее.
Некоторые, в том числе и я, не буду скрывать, любят экспромты, иногда они выходят очень даже ничего. Основан их успех прежде всего на хорошем знании материала, тогда мысль сама выводит вас на удачное сравнение или иной речевой оборот. Но не стоит думать, что вы – гений экспромта. Лучшая речь – заранее заготовленная и положенная на бумагу. Читать ее с листа не нужно, перед присяжными вы должны выступать «без бумажки». Но готовить речь письменно обязательно. Опять же, вы имеете право попросить судью вашу письменную речь приобщить к делу. Только делать это нужно в процессуальной форме правильно, не протягивая судье «прения», то есть устную речь, записанную на бумагу, что вызовет только улыбку и отказ, а в виде предлагаемых вами письменных формулировок по вопросам, указанным в пунктах 1–6 части первой статьи 299 УПК РФ. Под видом таких формулировок обычно судья получает прения, записанные на бумагу, и может ими воспользоваться при вынесении приговора, что, конечно, актуально больше для суда без присяжных. Присяжные будут вас только слушать, а поэтому не поленитесь взять ручку и бумагу или включите свой компьютер и программу текстового редактора. И пишите, пишите, пишите. Чтобы запомнить.
Как говорил Цицерон в своих трактатах об ораторском искусстве: «Справедливо говорится, что порченая речь развивается порченой речью и даже очень легко».
Цицерон понимал, что хоть и полезно говорить часто без приготовления, однако же гораздо полезнее дать себе время на размышление и зато уж говорить тщательней и старательней.
«А еще того важней другое упражнение, хоть у нас оно, по правде сказать, и не в ходу, потому что требует такого большого труда, который большинству из нас не по сердцу. Это – как можно больше писать. Перо – лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия; и это говорится недаром. Ибо как внезапная речь наудачу не выдерживает сравнения с подготовленной и обдуманной, так и эта последняя заведомо будет уступать прилежной и тщательной письменной работе. Дело в том, что когда мы пишем, то все источники доводов, заключенные в нашем предмете и открываемые или с помощью знаний, или с помощью ума и таланта, ясно выступают перед нами и сами бросаются нам в глаза, так как в это время внимание наше напряжено и все умственные силы направлены на созерцание предмета. Кроме того, при этом все мысли и выражения, которые лучше всего идут к данному случаю, поневоле сами ложатся под перо и следуют за его движениями; да и самое расположение и сочетание слов при письменном изложении все лучше и лучше укладывается в меру и ритм, не стихотворный, но ораторский: а ведь именно этим снискивают хорошие ораторы дань восторгов и рукоплесканий. Все это недоступно человеку, который не посвящал себя подолгу и помногу письменным занятиям, хотя бы он и упражнялся с величайшим усердием в речах без подготовки. Сверх того, кто вступает на ораторское поприще с привычкой к письменным работам, тот приносит с собой способность даже без подготовки говорить, как по-писаному; а если ему случится и впрямь захватить с собой какие-нибудь письменные заметки, то он и отступить от