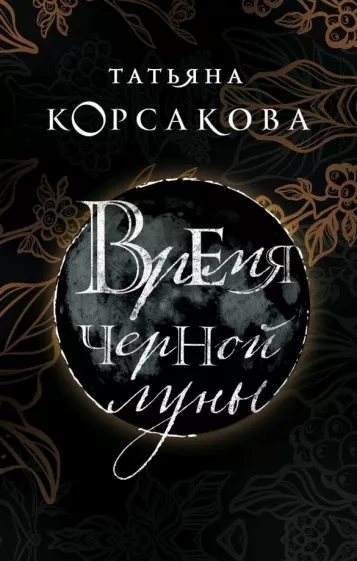Похвала Сергию - Дмитрий Михайлович Балашов
Все это будет. Всему этому придет (и уже наступает) свой срок. Незримые ручейки духовной работы пропитывают почву русского народа, дают ей творческое начало жизни. Это мистическая грибница, выкидывающая на поверхность, к свету дня, словно грозди тугих, прохладно-упругих грибов, главы храмов, дивную архитектуру монастырей, ни на что не похожие сказочные творения безвестных и гениальных зодчих, которым когда-то поклонится весь мир. Но все это вырастет на глубоко запрятанной грибнице духовного подвига, а когда начнет портиться, усыхать сама грибница, начнут угасать и храмы, опускаться, делаясь приземистыми и тяжелыми, купола, дотоле свечами пламени взлетавшие к выси горней; будут обмирщаться и темнеть иконные лики, запутываться в плетении словес и сплошной риторике жития… Но это будет не скоро и уже на склоне народной жизни, а пока еще только рождается пламя, пока купола – лишь шеломы, гордые воинской (и только) славою, едва-едва начавшие утолщаться, как бы расти и круглиться в аэре. Еще только является духовное пламя над Русской землей!
Еще не написана «Троица», хотя тот, кто вдохновит художника, сидит сейчас в митрополичьих покоях на Москве, обещает вернуть Стефана на Махрище, думает, кивает головою, и в глазах у него все не меркнет неземной слепительный свет давешнего видения.
– Не вопрошай меня ни о чем, отче! – просит он. – Господь замкнул мне уста. Но я могу поделиться с тобою радостью, ибо это и твоя радость. Мне дано было нынче понять, что труд наш, и твой и мой, угоден Господу!
Глава тринадцатая
Еще один поход, еще одно разорение Русской земли. Ярлык на великое княжение был вновь перекуплен Дмитрием, но борьба с Тверью не прекращалась, и даже неясен казался пока перевес Москвы.
У Мефодия, Сергиева ученика, что поселился на Песноше, невдали от Дмитрова, взятого и разоренного тверичами, на Фоминой неделе тверские ратные сожгли монастырь. Жечь там, собственно, как и грабить, было нечего. Крохотная часовенка, которую, в подражание учителю, Мефодий срубил сам, да келья с деревенскую баню величиной – вот и все хоромное строение. Правда, осенью к Мефодию поселились два брата-инока и срубили себе вторую келью, более просторную, разделенную на две половины, поварню с черною глинобитною печью и молельню, холодную, зато чистую горницу, где братья поместили принесенную с собою икону святителя Николая новгородского письма и крохотный, в ладонь, образ Богоматери.
«Что там было жечь и зачем? – думал Сергий, вышагивая по мягкой от весенней влаги дороге. – Не наозоровал ли местный боярин в страхе за свои угодья, чая свалить пакость на тверичей?» Он устремился в путь, по обычаю никому и ничего не сказав, только захватив с собою мешочек сухарей, несколько сушеных рыбин и хорошо наточенный плотницкий топор. Мефодию следовало помочь. Будут и еще разорения и поджоги, но днесь, сейчас, – Сергий чувствовал это душою, – Мефодий был в обстоянии[48] и нуждался в дружеском ободрении учителя.
Всюду пахали. Светило солнце, орали грачи, и худые, измученные голодною зимой мужики почти бегом, погоняя таких же худых, спавших с тела лошадей, рыхлили землю. На него взглядывали бегло, без любопытства. Бродячий монах, да еще в лаптях и с топором за поясом, был такою же привычной картиною, как и погорельцы, согнанные со своих мест войной и бредущие с детьми и голодными собаками в поисках хлеба. У иного из мужиков на насупленном лице так и было написано в ответ на не заданную еще просьбу о милостыне ответить угрюмо: «Бог подаст!» Но Сергий милостыни не просил и не останавливал разгонистого дорожного хода. За спиною у него болтались на веревочке сменные лапти, вода была во всех ручьях, и он, присевши на удобную корягу, сосал сухарь, запивая понемногу студеной водой, иногда грыз сухой рыбий хвост, подымался и шествовал дальше.
Один лишь раз, завидя, как пахарь, осатанев, бьет по морде ни в чем не повинную животину, запутавшуюся в упряжи, подошел молча и властно отстранил мужика (тот поднял было кнут, стегануть монаха, но поперхнулся, увидя взгляд Сергия, и, невольно крестясь, отступил посторонь). Сергий успокоил и распутал брыкавшуюся лошадь, поднял ее на ноги, живо разобрался со сбруей, и, пока кляча, дрожа всею кожей и расставя трясущиеся ноги, шумно дышала, отходя от давешнего ужаса, он связал порванную шлею хорошим двойным узлом, передвинул погоднее ременные петли на обрудях и, утвердив рогатую соху в борозде, строго и спокойно сказал мужику:
– Никогда не бей того, кто тебя кормит!
Он умело прошел один загон, что-то проговорив лошади такое, что она тотчас и радостно вильнула хвостом, пошла, натужно и старательно упираясь копытами в еще вязкую землю; красиво повернул, обтерев о землю прилипшую к сошнику грязь, и, вновь приблизившись к пахарю, вручил тому рукоять сохи, примолвив:
– И к труду всегда приступай с молитвою, внял?!
Пахарь совсем оробел и, неуверенно принимая из рук Сергия отполированный мужицкими мозолями рогач, поклонил, косноязычно выговаривая отвычными от иных, кроме ругани, слов устами что-то вроде: «Спаси тя, господин, Христос», перепутав с молитвою господское, боярское обращение.
Сергий уже выбрался с поля, не взглянувши назад, он обтер лапти о сухую, прошлогоднюю траву, принял посох, воткнутый им в землю на краю поля, и так же неспешно, но споро устремил далее. Мужик, прокашлявшись, отверз было мохнатые уста, чтобы изречь матюк, но поперхнулся, вымолвив вместо того непривычное для себя: «Ну ты! Со Христом-Богом!» И конь пошел, пошел, на диво старательно и ровно, не выдергивая больше сошников из борозды.
Где-то близ Дмитрова (тут беженцы текли по всем дорогам, кто уходя на Москву, кто возвращаясь к разоренным пенатам) Сергий заметил шевеление в кустах и услышал натужные стоны. Навстречу ему выбежал мальчик в огромной шапке, валящейся ему на глаза.
– Дедушка, дедушка! Помоги! Мамка телится!
Сергий, не улыбнувшись, зашел за кусты, сбросил мешок с плеч. Быстро и споро устроив все потребное – у бабы уже отошли воды и начинала показываться головка, – он положил роженицу погоднее, завернув подол, молча, не морщась, принял дитятю, обтер ветошкой (мальчонка, опомнившись, помогал довольно толково), дождал, пока выйдет послед, обмыл бабу, перевязал пуповину и тут (у него с собою всегда была крохотная посудинка с миром) помазал и окрестил младенца – во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Вымытый и завернутый малыш перестал орать и только помавал головешкою, ища сосок. Опроставшаяся