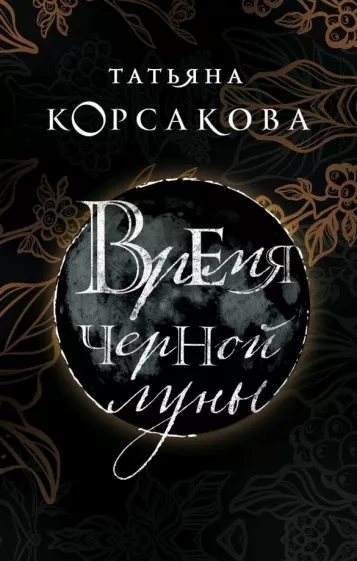Похвала Сергию - Дмитрий Михайлович Балашов
Парень отвалил от окна, выдохнул надрывно:
– Пусти, батя! – Старик-отец поджал губы, вздернул клок бороды, ничего не ответил на которое уже по счету вопрошание. – Икона у нас! – с безнадежным укором, пытаясь разжалобить родителя, проговорил парень.
– Окстись! Один ты у меня! Не пущу! – выкрикнула мать из запечья, где вязала в долгие плети, развешивая по стене на просушку, лук. – Сказано, не пущу!
Отец промычал что-то неразличимое себе под нос, вышел в сени.
– А татары придут?! – звонко вопросил парень, не глядя в сторону матери. Та вылезла из запечья, взяла руки в боки:
– Дак ты один и защитишь? Вона сколь ратной силы нагнано!
– Не нагнано, а сами идут! – упрямо возразил парень. И повторил настырно: – Икона у нас!
– Икона! Прабабкина, что ли? Век прошел, все и помнить! – Ворча, мать полезла в запечье.
Икона была непростая, когда-то подаренная вместе с перстнем князем Михайлой святым сельскому попу, что спас его от татар. У того попа оставалась дочерь, прабабка ихнего рода. Перстень, знамо дело, пропал, а икона доселева оставалась цела. И горели не раз, а все успевали выносить ее из огня.
Мать поглядела на икону с некоторою даже враждой. «Все одно не отпущу!» – подумала, но уже и с просквозившею болью, с неясною безнадежностью.
Хозяин тоже тыкался по дому, дела себе не находил. Дом был справный. Муж плотничал, и плотник был добрый, боярские терема клал.
А по улице бесконечною чередою шли мужики. Глухое ширть, ширть, ширть доносило и сюда, в клеть, хоть уши затыкай! Стоптанные шептуны сбрасывали тут же, закидывая куда в кусты, подвязывали новые. И снова бесконечное ширть, ширть, ширть…
«Уйду от них! Все одно уйду, не удержат! – думал парень, привалясь лбом к тесовой, янтарно-желтой, ниже уровня дыма, стене. – Убегом уйду!»
Отец вошел со двора, пожевал губами, подумал. Негромко позвал по имени. Парень оборотил лобастое, рассерженное лицо.
– Из утра уйдем! – твердо сказал отец. – Собирайся враз, а я рогатины насажу!
Бабе, что, охнув, вылезла из запечья, плотник высказал, твердо поджимая рот:
– Вместе пойдем! Пригляжу тамо за парнем, коли што…
Сказал, будто и не на войну, не на рать, а куда на плотницкое дело собрались отец с сыном, и баба поняла, охнула, сдерживая слезы, полезла в подпол за дорожною снедью…
Глава седьмая
Из утра, едва только пробрызнуло солнце, двое ратников, старый и молодой, спустились с крыльца с холщовыми торбами за плечами, с топорами за поясом, пересаженными на долгие рукояти, неся на плечах широкие рогатины. На одном был хлопчатый стеганый тегилей, на другом старый, помятый, заботливо отчищенный шелом. Две капли в бесконечной человеческой реке, текущей откуда-то из веков и уходящей в вечность.
Парень то и дело вертел головой. Наставляя ухо, вслушивался в то, что урывисто произносились тем или другим, а на привале, когда разожгли костер и сварили кашу в котле, что нес заросший до глаз пшеничною буйною бородою великан, парень и вовсе погиб, слушая соленые разговоры и шутки бывалых ратников. Ночь осенняя, темная уже плясала комариным писком над тысячами костров, там и тут раздавались говор и смех, кони, незримые в темноте, хрупали овсом. Огонь высвечивал то бок шатра, то телегу с поднятыми оглоблями. Великан, развалясь на расстеленном армяке близь костра (один умял полкотла каши!) сейчас, сытый, лениво отбивался от наскоков ратника, который наконец-то снял свою бронь и, присев на корточки к костру, кидал туда то сучок, то щепку, поправляя огонь.
– Женку как зовут? – прошал он у великана.
– По-церковному Глахира, Глафира, как-тось так! Ну а попросту Глаха! – отвечал тот, добродушно щурясь. Только что сказывал, как мечет стога, закидывая копны целиком, и женке много дела наверху топтать сено.
– Ты и телегу, поди, заместо коня вытащишь? – с подковыркою прошал ратник.
– А че? Коли не сдюжит конь… Приходило… Я, коли воз увязнет где, николи не сваливаю, ни дровы, ни сено. Так-то плечом, и пошел! Другие коней лупят почем попадя. А я коня николи кнутом не трону. Конь – тот же человек! Коли не сдюжил, так и знай, что помочь надобна…
– Ну а етто, с женкой ты как? – озорниковато кинув глазом, спрашивал ратный. – Тебе лечь, дак и задавишь бабу враз – и дух из ей вон! Поди, тоже вздымашь?! – Ратник показал рукою, как это происходит. – Как ту копну?
Мужики дружно захохотали. Великан добродушно улыбнулся, сощуря глаз. Сотоварищам изрек с ленивою снисходительною усмешкою:
– Дык чего с ево взять! Ен, може, за всюю жисть ничего тяжелее уда да выше пупа и не подымывал!
Тут уж загоготали так, что и от иных костров начали оборачиваться к ним: что, мол, и створилось у мужиков?
Парень слушал, покрываясь темным румянцем. Внове было все: и это дорожное содружество, и едкий разговор, и шутки с салом, с намеками на то, чего он еще не пробовал ни разу в жизни. И теплая ночь, и огни, и звезды в вышине над головою…
Утихали шутки и молвь. Иные уже задремывали. В темноте тихим журчанием лилась речь старого ратника, что сидел в стороне и не участвовал в озорных байках. И сейчас парень, перевалясь поближе, стал тоже вслушиваться в неторопливый говорок:
– А што ты думаешь? Идем, значит, на ворога, и никто не благословил? Не-е-ет! Так не быва-а-ат! Сергий, он, конешно, и люди бают! Дак што, коли ты не видал? Люди видели! Ен ведь не в злате, не в серебре, он по-простому, в рясе холстинной, залатанной, в лапоточках, и не у княжеского крыльца, не-ет! Там-то свои попы да архимандриты благословляли, ето конешно! А ен так-то, при дороге стоял да нас, мужиков, благословлял – значит, весь народ московский! Не бояр там, не князя, а народ! И стоит, значит, седенький такой, невеликий росточком, и руку поднял, и таково-то смотрит на всех: из глаз ево ровно свет струит! Ну и… на травке стоит, а которые пониже кланялись, значит, иные в пояс, а кто и в ноги ему падал, дак те вот видели! Стоит, бают, а травы-то и не примяты вовсе, как словно иголками торчат, и он-то на самых, можно сказать, вершинках трав стоит, не стоит, а парит в воздухе словно! Такая, значит, святость ему дадена! Вота как! А ты баешь – татары! Да коли Сергий призовет, дак и