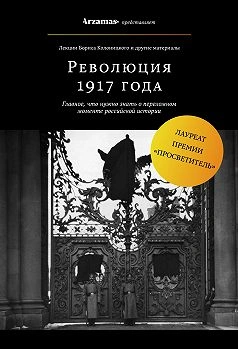Ревность о Севере. Прожектерское предпринимательство и изобретение Северного морского пути в Российской империи - Михаил Геннадьевич Агапов
Эта книга посвящена небольшой группе людей (насчитывавшей едва ли десяток человек), которых современники называли «ревнителями Севера». Ее образовали авторы амбициозных прожектов (здесь и далее мы используем это слово без всякого уничижительного смысла, но только в том значении, каким его наделили А. В. Крайковский, М. М. Дадыкина и Ю. А. Лайус), нацеленных на промысловое освоение Севера России в рамках частно-государственного партнерства. Точнее говоря, они стремились к извлечению ренты посредством создания покровительствуемой правительством, защищенной от конкуренции и обеспеченной бюджетными субсидиями компании. Деятельность «ревнителей Севера» пришлась на 1840–1870-е годы, пройдя сквозь несколько важнейших этапов российской позднеимперской истории. Они действовали именно в тот период, про который М. Могильнер справедливо заметила, что он «принципиально не описывается каким-то одним доминантным нарративом: ни традиционалистским, ни модернизационным, ни „полумодернизационным“, ни национализирующим, ни революционным»11. То же самое относится и к самим нашим персонажам – перечень контекстов их деятельности и социальных ролей был чрезвычайно широк. Наиболее яркие представители группы и главные герои нашего повествования – В. Н. Латкин (1810–1867) и М. К. Сидоров (1823–1887) – проявили себя в качестве предпринимателей, золотопромышленников, путешественников, публицистов, меценатов, устроителей выставок и пр. Это были люди особого типа. Их отличительной характеристикой был тот неподдельный энтузиазм, с которым они пропагандировали свои прожекты и то упорство, с которым они пытались их реализовывать. Эти люди буквально «болели» Севером, точно так же как другие заражались «золотой лихорадкой», железнодорожным строительством или азартом биржевых спекуляций12. Их, как жюль-верновского капитана Джона Гаттераса, неудержимо влекло на север13. Данное им прозвище – «ревнители Севера» – не являлось, как может сейчас показаться, ироничным. Библейский словарь Брокгауза в статье «Ревность» сообщает: «Р<евность> человека – это проявление страстей, чаще всего греховных (Песн 8: 6). Но Библии известны и самоотверженная Р<евность>, и Р<евность> (усердие) в добрых делах (Гал 4: 18)»14. Именно в последнем значении слово «ревность» и его производные использовались в рассматриваемом случае. «Во всех делах такого человека виден особливый дух ревности, который, так сказать, оживляет их и отличает от дел людей обыкновенных»15. Эти слова Н. М. Карамзина полностью применимы к нашим персонажам. «Мир твоему праху, неустанный ревнитель Севера», – написал в некрологе М. К. Сидорова в июле 1887 года главный редактор журнала «Русское судоходство» М. Ф. Мец16. «Известным ревнителем Севера» называл М. К. Сидорова советский исследователь Арктики В. Ю. Визе17. «Северными „ревнителями“» именовал М. К. Сидорова и его последователей сибирский журналист и писатель А. К. Омельчук18. Наконец, М. К. Сидоров и его ближайшие сторонники и сами характеризовали свою деятельность как «ревность»19, а самих себя как «защитников Севера»20. Не скупившиеся на эпитеты современники называли их также «ходатаями за Север»21, «деятелями по Северу»22, «неутомимыми поборниками Севера»23, «ратоборцами за Север»24, «стражами интересов Севера России»25, «северянами»26 или даже «северными умами»27.
Все прожекты «ревнителей Севера», направленные на промысловое освоение северных «окраин» страны, получили импульс от Печорских экспедиций В. Н. Латкина 1840 и 1843 годов. В 1858 году В. Н. Латкин вложил все свое добытое на сибирских золотых приисках состояние в созданную им вместе с П. И. Крузенштерном Печорско-Обскую компанию «для торговли лесом за границу». В 1864 году М. К. Сидоров, также преуспевший в золотодобыче и ставший к этому времени зятем В. Н. Латкина, выкупил оказавшуюся на краю банкротства Печорско-Обскую компанию, но не смог ее спасти. В 1869 году М. К. Сидоров добился Высочайше утвержденной привилегии на организацию экспедиций для открытия пути через Ледовитый океан в устья Оби и Енисея и на образование торгово-промышленной компании после того, как в устье одной из упомянутых рек придет первое судно. Предоставленная М. К. Сидорову Высочайшим рескриптом зона деятельности простиралась «от Карских ворот до устьев Енисея включительно и в Карском море». Однако первые зафрахтованные корабли достигли устьев сибирских рек, когда срок действия привилегии уже истек. В последние годы жизни М. К. Сидоров безуспешно пытался создать частно-государственную промысловую Северную компанию. Она проектировалась им по лекалам Беломорской торговой компании и Российской Американской компании. Целью «Северной компании» была колонизация «подполюсной страны» (выражение М. К. Сидорова28). Надо сказать, что «ревнители Севера» никогда не стеснялись слова «колонизация», наоборот – они сами, их сторонники и их последователи вплоть до раннесоветского периода включительно поднимали его на щит29. Не будем забывать, что в духе «прогрессивного» XIX века колонизация воспринималась как исключительно положительное и даже героическое явление. Освоение колонистами «бесхозных» земель расценивалось как их бесценный вклад в дело строительства модерных наций и в прогресс для всего человечества30. На практике колонизация во многом была игрой воображений, конструированием культурных различий, производством социальных иерархий и дистанций, в пределе – прямым физическим насилием31. Иначе говоря, «всегда озабоченная территорией, колонизация делалась людьми и над людьми»32. В отличие от современных авторов, пытающихся представить русский опыт колонизации Белого поморья и Сибири как комплементарный интересам их индигенного населения33, русские первопроходцы со времен Московского царства и до времен покорения Маньчжурии никогда не скрывали, что отправлялись за тридевять земель «ради наживы и царя»34. При этом «замирение» коренных жителей Крайнего Севера, их «перевоспитание», а в некоторых случаях и русификация были важнейшими задачами в деле колонизации российской арктической периферии. Зарубежный колониальный опыт ни только не отвергался, но, напротив, служил ориентиром. Так, «ревнители Севера» неоднократно призывали брать пример с «английской Ост-Индской компании», впрочем, как заявляли они, исключительно для того, чтобы бороться с иностранными колонизаторами Севера России их же оружием.
Пережив своего наставника, компаньона и тестя на двадцать лет, М. К. Сидоров скончался, как и В. Н. Латкин, банкротом, обремененным долгами и судебными тяжбами. Сторонники В. Н. Латкина и М. К. Сидорова часто описывали их как героев-первопроходцев, совершенно лишенных «эгоистических мотивов»35. Такая героизация, несомненно, неординарных личностей во многом упрощает их образы. В действительности они, как многие яркие персоны, были сотканы из противоречий. Конечно, они были мечтателями, одаренными безграничным воображением. Большинством современников они воспринимались как чудаки на грани безумия. Но они не были безумными, они были дерзновенными, как говорил Санчо Панса о своем господине. Впрочем, не верно было бы видеть в них и Дон Кихотов. Все их действия строились на коммерческих расчетах, они ясно осознавали свою выгоду и до самого конца надеялись на успех. В этом отношении они были типичными представителями того коммерческого активизма, обратить внимание на который призывает Эрика Монахан36. Необходимо лишь добавить, что не менее активно и, пожалуй, более успешно В. Н. Латкин и М. К. Сидоров действовали на