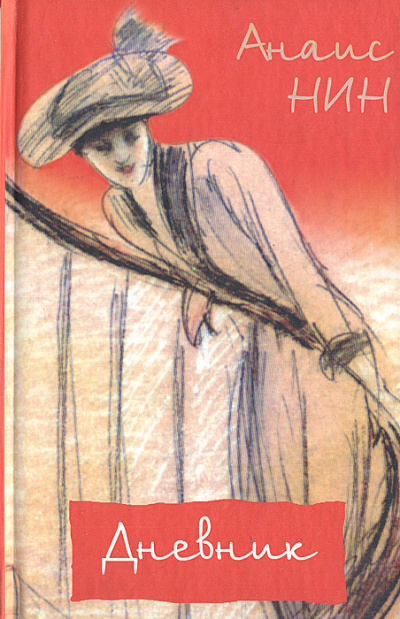Цеце - Клод Луи-Комбе
Остальное не столь уж важно. Я прошла весь этот путь вовсе не для того, чтобы его описать. Поймите, кто сможет, что источник мало-помалу иссяк, что подспудная субстанция плоти опорожнилась в меня всеми своими детскими качествами, что структуры, некогда завязанные в живую реальность, способную сказать мама! мама! медленно расцепились и поглотились друг другом, что сегодня у меня под рукой остается лишь та исполненная сладости и теплоты безымянная вещица, о восхитительном присутствии которой я не переставала твердить в продолжение всего этого завещания.
Я говорю о восхитительном во всех смыслах этого слова. Ибо эта неописуемая тряпица, алхимический остаток безграничной любви, оказывает на меня совершенно особое воздействие. Одному богу ведомо, до последней ли капли я ее высосала, одному богу ведомо, как ее целовала, ласкала, терлась об нее, в нее зарывалась. И она по-прежнему здесь, всё так же нетронута, всё так же бесформенна, без других черт, кроме сладостной теплоты, вещица-правнучка, оставленная жизнью, оставленная детством, невнятная намётка спящего пениса. Думается, я исчерпала на ней все ресурсы губ и языка, у нее больше нет ни вкуса, ни запаха, ни внятной субстанции, она была бы совсем близка к небытию, если бы не так волновала своей скудностью, одиночеством, ничтожностью.
Такая же легкая, как тень, такая же сдержанная, как моя улыбка, такая же темная, когда я нагибаюсь над ней, как мои грезы под ве́ками, она — всё, что осталось от ребенка, завершение всего того, чем он попытался быть с первого дня, когда, очертя голову, под вопли от прободения и разрыва, выпростался из материнской гавани. И сталось так, что теперь я могу держать у себя в пригоршне и созерцать всю тщету действия и неизбывную пустоту бытия. Какое отсутствие плотности и веса за кажущейся тяжестью особи, какая неподвижность за ее жестами, мимикой, комедией ее энергичности. Из всех посулов мужественности продолжает существовать разве что, скажем, анонимная шелуха на недвижной глади времени, исполненная смутно фаллической сладости и теплоты. И еще не довершена последняя жертва.
С самого начала, стоя, огромная, набухшая, отверстая, королева тайных складок и узких протоков, жужжащая, неутоленная, я несу в себе незапамятную, безымянную ночь. Мать всех голодов, стою, голая и одинокая, у подножия своего креста с распахнутым до паха ртом. (И когда я поглощу в последней страсти всю вселенную, еще пребудет мой рот, бесконечно отверстый для любви, отверстый для небытия.)
Но хотя время и было столь медлительно, теперь оно уже не ждет. Слишком сладка моя сладость. И мне уже не вынести, что я так глубока. Если я не поспешу, если лоскуток нежности не растворится наконец в моей утробе, я возлюблю себя зубами.
Протянись, моя пришедшая из ночи рука. Раскройся, такая послушная настойчивым грезам ладонь. Втянись, втянись еще глубже, если это возможно, живот, мое женское чрево, погрузись еще дальше в свои секреты, всё дальше и дальше в желания, прильни, прильни еще теснее, еще любовнее к бездонному колодцу, который отмеряет судьбу матери.
Как я люблю тебя, мое изваянное властвовать тело. Я пестовала в себе отстраненность лишь для того, чтобы полнее с тобой соединиться и стать сообщницей всех твоих масс и кривизн. Лишь для того отказывала тебе в насущном хлебе ласк, чтобы полнее ощутить в этот миг твой голод.
В тебе вопиет пустота. Я слышу ее в запредельной тиши, в которой неотступно до сих пор пребывала. Но какая любовь сможет тебя хоть когда-то наполнить, темная плоть внутри моей плоти, какая влага сможет затопить тебя, моя волглая, моя неизбывно глубинная самка?
Ах! мне нравится ощущать, как ты счастлива, без всякой мысли преследуя свою водную грезу, глубинная плоть за гранью любой глубины, беспредельно раскрытая, без суеты шевелящаяся во мне нежная мякоть, ритм моего бытия, темнота, жар, весомость женщины, которая без конца округляет и оттачивает во мне свою растительную толщу и которой не надоедает готовить себя к рождению, никогда не выходя из себя.
Мне, в самом сердце любви, надо вглядеться в вас, мои сокровенные губы, еще более сексуальные в своем материнстве, без утайки и угрызений преданные всем фантазмам ночи. Редко вам выпадала радость, но никогда не была она пошлой. Я не искала для вас легкого счастья. Вы медленно захлебывались своей всегда, всегда неутоленной потребностью в обладании и поклонении. В самых тонких своих ячейках вы скопили всю кровь желания. И теперь полны и тяжелы, как могла быть материя в руце божией, когда он творил полой первую женщину, — и, не будь вы столь сладостны в своем истечении, ваш вкус к насилию оказался бы нестерпимым. Сила созидания, сила разрушения, проводники жизни — вот я и выбрала вас, мои пылкие мечтательницы, проводники смерти.
Тьмы, все темно́ты мои, привечайте.
Он вновь идет к вам, тот, кого вы выносили, Тот, кто на мгновение уверовал, что мир ждет и нуждается в нем, маленький человечек, воспринявший всерьез пространство и время, возвращается к своему истоку. Идет вспять, возвращается в родные края. Он нашел-таки свое место. И, утратив все иллюзии, сорвав все замыслы, провалив все начинания, покоится под рукой, без имени, без формы, без плотности. Лишенный всех забавных подробностей, он — всего только тень чего-то, лишенного самости. Но всё же и сладость, и теплота, и, через них, неясный образ какой-то фаллической реальности или, на худой конец, носитель смутных упований на фаллос. Но это все далеко, так далеко, просто смерть.
Вот и всё. Всё, что осталось от его гения. Всё, что осталось для моего голода.
Ах! разорвите ткань ночи, руки мои, и возьмите его, ребенка, подберите и принесите, вам не напастись нежности на его хрупкость, серьезности — чтобы его почитать. Крепко сожмите, доставьте его мне, Матери во мне, ей уже не вынести, до чего она пуста и голодна. Толкните его ко мне, бросьте, размозжите его об меня, да, во мне, мною, так надо, я так хочу, в меня, во мне, осталось совершить только одно, последний жест последнего ритуала — кому знать об этом, какие моим бедрам, они уже раздвигаются, как в день его рождения.
Но не ночь ли это, которая слишком затянулась и никогда не кончится? Руки эти, некогда вылощенные моими боками, непомерно размашисты пред неизбывной ничтожностью крохотного существа. Когда они доберутся до кромки паха для последнего причащения, грезой о котором была вся моя