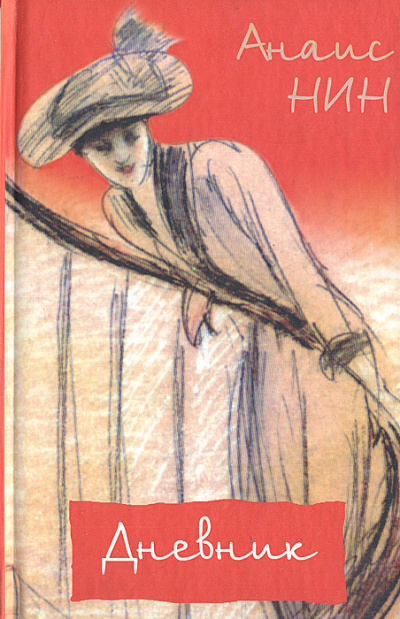Цеце - Клод Луи-Комбе
И всё это вокруг персика или виноградины! А что было бы, зависни любовное желание в ожидании над ребенком!
Но до этого я еще не дошла. Я вложила столько энергии, чтобы отказаться от мелочей, чтобы выгадать время среди лишенных настоящего величия занятий, что в присутствии ребенка меня словно переполняло совершенно примитивное насилие моего инстинкта.
Часто случалось, что ребенок заставал меня врасплох в момент сугубо интимной сосредоточенности, когда я полагала, что ничто не может потревожить меня извне. Присев на корточки в углу комнаты, когда голая, когда прикрывшись, лицом к стене, я была поглощена не размышлением и не созерцанием, даже не мечтаниями, а предельным усилием опорожнить себя от всякой мысли, от любого чувства, любого ощущения, пытаясь сплавить в единое небытие желание пустоты и пустоту своего желания. И тут входил ребенок. Ему не требовалось предпринимать какие-либо усилия: все двери стояли открытыми настежь. Он проходил вперед, скорее всего на цыпочках, походкой всегда совершенно бесшумной (именно так он и мог со мной встретиться). Он подходил ко мне вплотную, сначала у меня за спиной. Затем, поскольку я не двигалась, проскальзывал между мной и стеной. И внезапно вопил: мама! мама! Выл. Его голос прорезал тишину, как осколки бьющейся бутылки, мама! мама! В кривящемся рту полыхало пламя, ничего общего с детским голосом, рвалась плоть, стоял крик, может, то был ужас, может — совершенно неведомая форма любви, может — потребность в каком-то ином крике; крик становился всё выше и пронзительнее, пока я стремглав мчалась сквозь свое одиночество к одиночеству ребенка, пока задыхалась, теряла дыхание, и это было всё, чем я могла в то мгновение помочь, — сбиться с дыхания, нестись в запале, с шипением и сипением заклинательницы мелких змеек, только этим я и могла ему помочь, своей вырвавшейся из утробы одышкой, хрипами в сладостном жаре моих губ, — как раз это и требовалось, чтобы его удержать, и его зацепляло, — как раз то, что требовалось, чтобы его схватить, и он льнул, он вновь обретал меня, я вновь обретала его, мой рот с придыханием обшаривал рот, который уже не мог кричать, детская плоть уступала его пылу. Мы сбывались в одном и том же дыхании. Найдется ли имя для этой любви?
Я жила в великом смятении. Я ощущала в себе безмерные способности к отказу, настоятельную тягу к созерцательной жизни, к сосредоточенности, полное отсутствие честолюбия и, вообще говоря, глубокое равнодушие в отношении светских условностей. Я почти не появлялась на людях. Никого не принимала. Я держалась особняком, на расстоянии (некоторые, возможно, сочтут: в безопасности — но только те, кто ничего не смыслит в истинных угрозах, каковые суть угрозы духа, духом порожденные и духу предназначенные...).
Я вела жизнь, во многих отношениях схожую с жизнью святых затворников: исполненную неподвижности, медитации, умеренности в еде, неустанных бдений... Не стоит тем не менее заводить это сравнение слишком далеко. В действительности надо мною к неодолимо властвовало всемогущее вожделение, необузданно связывавшее меня с ребенком.
В погоне за единством своего бытия я чаяла своего рода равновесия между уживающимися во мне волей к аскезе и чудесной жизненной силой желания. Чтобы развить эту силу, я задействовала все ресурсы личности, глубоко захваченной духовным совершенствованием. То есть поставила всё то, что предназначало меня для судьбы в высшей степени религиозной, — свою потребность в культе, чутье к церемониалу, склонность к жертвоприношению, свою тоску по блаженству, — на службу желанию — самому плотскому, самому нутряному, самому неизбывному из желаний, что могут вызреть внутри женщины, в гнезде матки. (И если женщина хочет подобраться ближе к сути своего имени, пусть ищет среди метафор внутри. Именно оттуда она и начинает существовать. Я прекрасно это усвоила, посвятив лучшие часы тому, чтобы вернуться внутрь, возвратить внутрь то, что попыталось оттуда вырваться, чтобы превратить нутро в принцип и конечную цель всех своих действий.)
Мне нужно сказать всё — иначе мгновению, которого я так дожидаюсь, никогда не достичь совершенной полноты. Ибо это мгновение, миг возврата, миг, когда сладостная вещица из пустой и суетной плоти должна вернуться к месту своего истока, — это мгновение богато всеми другими, в череде которых крепло мое желание. Итак, нужно, чтобы вся эта история сохранилась у меня в сознании— более того, чтобы я пережила ее заново во плоти вплоть до неизбежного блаженства— блаженства, ради которого мы, ребенок и я, жили — без колебаний, без полумер, никогда не оглядываясь, никогда не выискивая лазеек.
Среди жестов, которые я научилась приостанавливать, было несколько поспособствовавших развитию моих задатков материнской любви. Скажу о них не как о низменной своей стороне — безнравственной стороне, постыдной грани, — а просто как о действиях, к показательных для моего способа располагать существованием и не забывать о своей женственности.
Должна сказать, что прежде, чем ребенок явился в мир, я не была, насколько себя помню, слишком склонна предаваться одиноким усладам. Подчас мне случалось снимать излишнее нервное напряжение поспешными манипуляциями, погружавшими меня скорее в сон, нежели в блаженство. Но мой интерес никогда не задерживался на аутоэротических практиках — по крайней мере, в собственно сексуальных зонах удовольствия. Странно, но рот интересовал меня бесконечно более, нежели пах. Он приносил мне, когда я проходилась им по телу ребенка, такое полное удовлетворение, какого никогда не могла доставить ни одна сексуальная ласка. Залитые испитыми из органических полостей дитяти интимными соками, губы расцветали на моем лице в безграничном удовольствии, оставляющем далеко позади воспоминания о нескольких девических оргазмах... Как рассказать о вкусе на языке, о том, как роскошно набухал он между налитыми губами, о содрогании челюсти и спазмах глотки в излишествах удовольствия. Когда дитя сосало мою грудь, я ощущала,