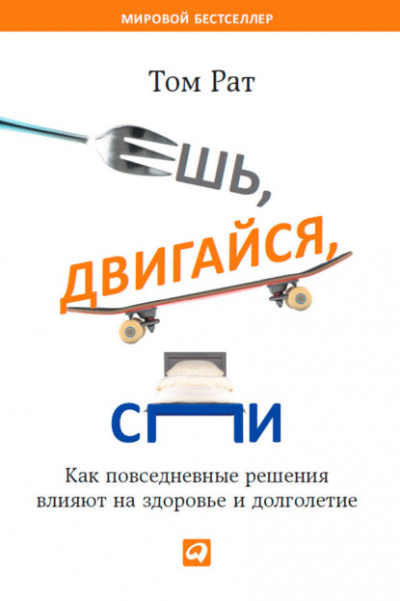Колодец - Абиш Кекилбаевич Кекилбаев
— Э, бисмилля!
— Да будь благословенен наш путь!
С трудом, медленно поднимаются навьюченные верблюды. Головная часть кочевья уже выбралась па дорогу. Его сопровождают, выстроившись по обеим сторонам в чинные ряды, девушки верхом на лошадях. Позванивают их украшения, нежно колышутся перья филина на головных уборах. Мужчины еще не сели па копей: ждут, пока аксакалы закончат благодарственную молитву в честь прошлогодней, удачной стоянки. Но вот сложены вместе ладони, вот с именем аллаха на устах старики провели руками по лицу и поднялись, опираясь о колени друг друга. Джигиты, вытащив камчи из-за голенищ, как по команде устремились к коням.
Мужчины поопытнее тут же умчались рысью вперед — заблаговременно подыскать для остановок пастбище и водопой. Молодые присоединились к девушкам и молодайкам. Кто шутил, громко хохотал; кто украдкой от пожилых женщин спешил обнять нарядных девушек пли будто невзначай коснуться талии или руки. Совсем еще зеленые девушки и парни разговаривали взглядами, сами еще не понимая смутных своих чувств. Джигиты посмелее цеплялись к молодым женщинам: «Подари платок, красавица! Устроим скачки, чтобы сои разогнать». И при этом держали коней бок о бок, стремя в стремя. Притворяясь, что хотят отобрать платок, щипали их, хватали за что попало, выдавая баловством жадных своих рук тайное желание. Молодухи расцветали, испытывая острое волнение от прикосновения сильных, нетерпеливых рук. Чтобы продлить жгучее удовольствие от этой игры, сопротивлялись, пререкались, загадочно улыбались. Стрельнув из-под густых ресниц хитрым взглядом, озорницы умудрялись обнажить нежные смуглые свои руки. Увертываясь, звонко смеясь, припадали они к гриве коня, распаляли и без того сгорающих от запретного жара джигитов.
Долго длилась эта любовная забава. Обессилев от нее, от томительной слабости, разлившейся по всем жилам, какая- нибудь из проказниц вынимала из кармашка узорчатый платочек и дарила его осчастливленному наезднику. Вскинув платок над головой, гикнув, тот мчался вперед, а за ним пускали вскачь копей и остальные джигиты.
Когда кочевье взбиралось па яркий и пестрый от разнотравья перевал, было видно, как по необъятной степи во всех направлениях гуськом тянулись кочевья разных аулов. Любопытные мальчишки вихрем неслись им навстречу, чтобы разузнать о них и доложить взрослым. «A-а, так это аул такого-то,— говорили взрослые,— надо подъехать, пожелать ему доброго пути».
Впереди каждого кочевья величественно восседала на украшенном коврами верблюде старуха. Опа извлекала из коржуна и раздавала куски вареного мяса почтительно приветствовавшим кочевье джигитам, а мальчишкам — баурсаки.
— Спасибо, аже! Удачи вам, бабушка! — благодарили молодые ветрогоны и тут же спешили к следующему кочевью, чтобы и там разжиться гостинцами. Вот так всю дорогу и носились джигиты от одного кочевья к другому, пока не добирались до места назначения.
Провожая вместе с дядей и его женой аул сватов до перевала, Енсеп смотрел на знакомые ему с детства картины кочевой жизни с жадным вниманием, с замиранием сердца.
Сонная, безмолвная обычно степь сегодня наполнилась движением и звуками. Все были при деле, возбуждены, все куда-то рвались, спешили. Безразличные ко всему на свете верблюды и те шагали бодро, легко выкидывая вперед длинные, нескладные свои ноги. Высокие тюрбаны старух, белевшие за решетками балдахина, издалека казались готовыми взлететь лебедями.
Кочевье — самое большое торжество в скупой на радости, дремотной степи. Взбудораженные, ликующие люди рвутся не просто к обильному пастбищу, к новому месту — они полны надежд, ожиданий чего-то неизведанного, что непременно привнесет благотворные перемены в их жизнь.
Во время кочевья даже ленивые, флегматичные, окостеневшие от хвори пли безделья люди обретают молодую бодрость и оптимизм.
Утомленная мелкими изо дня в день заботами, огрубевшая душа вдруг обретает крылья, трепещет, как бабочка в погожий день. Вольный ветер степи выметает, выбивает, будто из старого сопревшего тряпья, пыль из застоявшегося в зимовьях быта. И гонит-погоняет аулы в обетованные земли.
Енсеп с тоской глядел на все удалявшееся длинное кочевье. Караван величаво ступавших верблюдов увозил на своих горбах не только юрты, еще вчера белевшие по всей степи у подножия холмов, но и веселье, смех, суматоху — саму жизнь.
В степи, покрытой сочной зеленью, темнели, словно болячки на здоровом теле, проплешины бывших стойбищ. И даже они, эти проплешины, радовали Енсепа каждый раз, как он отлучался в степь из лачуги колодцекопателей.
Жизнь тех, кто роет колодцы, тускла и беспросветна. Всей радости в ней — углубляющаяся с каждым днем дыра в чреве земли да возрастающая рядом куча грунта. Маленькие серые лачуги вокруг будущего колодца казались безнадежно затерянными в огромной пустыне. Енсеп завидовал верблюдице, молоком которой он и его товарищи забеливали чай. Она свободно бродила по степи, на выпасе; они же, мученики, день-деньской, как кроты, ковырялись в земле.
Солнце высушило весенние кизяки — единственное свидетельство того, что и здесь была когда-то жизнь. Заросла травой и тропинка, по которой Енсеп трусил па своей чалой лошадке в аулы.
Енсеп, как и его предки, взялся за лопату. Неокрепшие мышцы ныли, руки повисали плетьми, спина не разгибалась от усталости и напряжения, в голове шумело, перед глазами плыли круги. От тоски по недавней свободе свербило сердце. Обхватив обеими руками лопату, предался он тогда тяжким думам. Он чувствовал себя как верблюжонок, который не ощущает больше на губах тепла материнского вымени, его мягкой податливости, нежного, с приятной горчинкой молока. Напрасно ревет верблюжонок, напрасно ищет вдали тоскующими глазами мать; все равно ему не остается ничего другого, как припасть шелковистыми губами к отвратительной, больно кусающей колючке, чтобы хоть чуть-чуть заглушить сосущий голод...
Да, голод повелевает миром, понял Енсеп. Все живое на земле — от неутомимых муравьев, волокущих былинки в свой муравейник, до двуногого существа, именуемого человеком,— появившись по воле бога на свет, начинает отчаянную борьбу за существование, за то, чтобы набить свое нутро, ибо невыносимо, когда оно, проклятое, пусто.
Енсеп уразумел, что ему нечего ждать чуда, что пора самому, как и всем прочим, заботиться о хлебе насущном. Ведь жить-то надо, говорил ему разум, а душа бунтовала: неужто жить — означает покоряться безжалостной судьбе, что закинула тебе на шею грубую петлю? Раз и навсегда отказаться от высоких стремлений, светлой мечты и бессмысленно топтаться подобно верблюжонку на привязи вокруг железного кола, который вбил для тебя рок?
Эти новые, неожиданные, как внезапный выстрел, вопросы пронзили юное сердце Енсепа, оглушали, отравляли, его существование с того самого дня, когда он впервые спустился в пугающую пасть колодца. Вздувались на ладонях волдыри, он работал, работал, не разгибая спины, и думал, искал ответа на свои