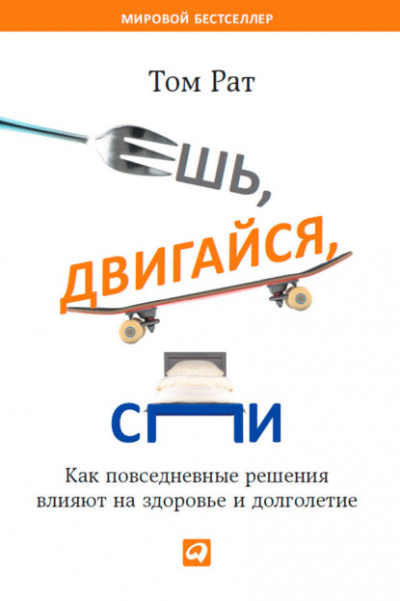Колодец - Абиш Кекилбаевич Кекилбаев
Каким бы усталым ни возвращался домой Даржан, завидя детей, он широко улыбался. Воспитанные отцом в суровости, дети вначале сторонились и Даржана. Но вскоре почувствовали безошибочным ребячьим чутьем, что этот заросший волосами, страшный, молчаливый верзила добр и любвеобилен. Едва он садился за чай, как вся малышня, естественно, кроме Енсепа, облепляла его. Кто лез на плечи или голову, кто повисал па шее, кто карабкался на колени. Даржан все это терпеливо сносил и только довольно ухмылялся.
Теперь, вспоминая ласку Ханум и Даржана, поразительную щедрость их души, что согрела его сиротское сердце, Еисеи ощущал, как горячая волна подкатывает к груди, а сердце щемит от тоски, оттого, что тех дней не вернешь. И как бы потом ни разочаровывался он в людях, какие бы пи терпел от них обиды, он всегда благоговейно хранил в себе бескорыстную любовь и безоглядную доброту дяди и его жены. В самые отчаянные периоды жизни, когда грудь, кажется, не выдержит, разорвется, когда белый свет не мил и хочется уйти, скрыться от всего и всех, недолгие светлые дни детства были ему опорой и утешением. Видно, душа человеческая что старая кружка нищего, стоящего на обочине большой караванной дороги, по которой взад-вперед снуют люди. Почти каждый что-то в кружку кинет. Так и в душу — кто капнет яд, кто — мед. От одного яда человек давно бы погиб, но жизнь на том и держится, тем и сладка, что нет-нет да и подкинет ему скупердяйка судьба каплю меда. Потому и не сдается человек, все к чему-то стремится, во что-то верит, питает обманчивые надежды.
Даржан не сразу привлек Епсепа к своей работе: жалел не окрепшего еще юнца, щадил его, считал, что тот успеет намыкаться с колодцами. Два года Енсеп жил вольно и беззаботно. За это время он вытянулся, окреп, стал ладным и пригожим парнем. В знак того, что он стал джигитом, решила Ханум подарить ему коня. Даржан, слава богу, имел работу, а значит, и заработок. Сундуки их, правда, от добра не трещали, но овечку резали для гостя всегда, а для близкого родича на привязи стоял конь. Даржан один содержал безбедно два дома: все одеты, обуты и, как говорится, дно казана сухим не бывало. Из имевшихся в хозяйстве лошадей Ханум выбрала для Енсепа четырехлетнего гнедого со звездочкой на лбу, красивое седло и уздечку.
Как-то летом, когда она с мужем отправилась гостить к своей родне, Ханум взяла с собой и юного Епсепа. Родственники Ханум были не из тех, кого в народе презрительно кличут «вонючими богачами». Они жили широко и весело. Дастархап их был щедр, в юрте — достаток, девушки — красивы, джигиты — храбры. В округе их аул называли «белогрудый Арын из шестидесяти юрт».
Разъезжать по степи, странствовать было страстью арып- ских джигитов. Одевались они нарядно и богато. Черные приталенные бешметы из сукна, привезенного аж из самого Оренбурга, ослепительной белизны шелковые рубахи были излюбленной их одеждой. Когда они приближались к любому аулу па породистых своих вороных или гнедых скакунах, там начиналась суматоха. Девушки и молодухи спешно прибирали в юртах, пожилые женщины и старухи мыли, перетирали посуду. Спешивались джигиты из аула Арын чинно; они сидели в седлах до тех пор, пока хозяева с поклоном не принимали из их рук поводья и не помогали спуститься па землю. На постель поглядывали придирчиво: не дай бог, чтоб под периной оказалось хоть крохотное зернышко. Тут же его приметят, на смех поднимут хозяев — все сплошь шутники да озорники. Язычка их побаивались: если что не так, мигом раззвонят по окрестным аулам.
Епсеп быстро здесь освоился; парни отнеслись к нему без спеси, не как к чужаку. Ловкий, пригожий Епсеп прилично джигитовал па коне, у него был сильный и приятный голос.
Пел он па свой, особый манер — протяжно, пежпо, с чувством, лаская слух ценителей песни. Для юноши из степи это имеет значение, и немалое. Ведь он доставляет радость людям из затерявшихся в степи аулов, которые всю жизнь только и знают, что пасти овец да косяки лошадей. Проникновенная песня бередит души, окрыляет джигитов, будоражит сердца юных, расцветающих девушек, смущенно краснеющих возле родителей или старших невесток, волнует игривых молодок, которые, подавая певцу пиалу с чаем, так и норовят коснуться, будто невзначай, белыми пальчиками руки джигита и обжигают его горячим взором. Одним словом, умение петь вполне оправдывает выпитый чай и съеденное мясо в доме, где потчуют желанных гостей.
Когда Епсеп на вечерниках пел под аккомпанемент добры, или обрушивал на слушателей искрометное терме, или увлекал из мудрыми сказаниями — кисса 2 , увлажнялись глаза пожилых мужчин, чьи лица из года в год облизывал шершавым языком лютый мороз, а сердца исцарапаны были острыми шипами прожитых лет. Честолюбивые джигиты впадали в задумчивость и печаль, и перед их глазами, словно мираж в степи, маячили дерзкие, по, увы, неосуществимые мечты. И лишь девчушки-подростки, чьих щек не коснулась пылинка, а чести — малое пятнышко, испытывали неведомую, сладкую, волнующую кровь истому. С восхищением, благоговением даже слушали они смуглого певца, вдохновенно хлеставшего пальцами по струнам домбры. Щечки их пылали, сердца таяли, на глазах выступали счастливые слезы, и под атласными платьями, там, где чуть заметно возвышались стыдливые девичьи груди, волной пробегала дрожь.
Юноша пел, не щадя голоса, не вникая в смысл извергаемых им слов; мелодия лилась стремительно и свободно, рука привычно ходила по домбре. Если взгляд Енсепа невзначай встречался со взглядом какой-нибудь жадной до ласки, опытной молодухи, он еще больше воодушевлялся, словно взмывал вверх па легких крыльях. Однако могущественным повелителем толпы он чувствовал себя лишь пока пел; когда же кончалась песня, он совершенно терялся под любопытными взорами, смущался от благодарных, хвалебных сов, краснел, как девчонка. Заметив это, юные девушки, чьи сердца он разбудил, втайне жалели его, а молодайки глазели на него еще пристальней, еще зазывней. Смутный жар пробегал по жилам Енсепа.
Увы, пора юности коротка, как весна в степи. Только- только зацветет девушка, ее выдают замуж. Только-только появится пушок на подбородке юноши, его заарканит работа... Безмятежная юность Енсепа тоже была короткой и сладкой, будто сон путника, всю ночь проведшего в дороге и лишь па заре остановившегося па привал.
Когда мысли Енсепа блуждали ио закоулкам невозвратных тех лет, к немолодому уже сердцу подкрадывалась грусть. Мышцы, затвердевшие как камень за бесконечные годы тяжелой работы, и те в таких случаях расслаблялись, мягчали.
Енсеп не испытывал тоски пожилого,