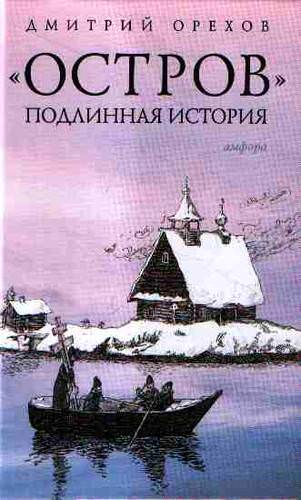«Остров». Подлинная история - Дмитрий Сергеевич Орехов
— Как я думаю, вам, Ваше Высокопреосвященство, скучно здесь после Петербурга?
Митрополит поглядел на нее и — Бог его знает, связал ли он этот вопрос с историей своего отбытия из Петербурга, или так просто, — ответил ей:
— Что это такое?.. что мне Петербург?.. — И, отвернувшись, добавил: — Глупая, право, глупая.
Тут я заметил всегда после мною слышанную разницу в его интонации: он то говорил немножко надтреснутым, слабым старческим голосом, как бы с неудовольствием, и потом мягко пускал добрым стариковским баском.
„Что мне Петербург?“ — это было в первой манере, а „глупая“ — баском.
Первое это впечатление, которое он на меня произвел, было странное: он мне показался и очень добрым и грубоватым. Впоследствии первое все усиливалось, а второе ослабевало”.
* * *
Одними из первых с характером нового митрополита познакомились киевские ребятишки. Как-то раз ученики иконописной школы отца Иринарха решили поживиться в саду владыки сочными грушами. Сад никто не охранял, однако они расставили дозорных, проникли за ограду и подползли под кустами к лучшим деревьям. Все шло хорошо; работа закипела, сторожа бросили караулить и тоже залезли в сад. В это самое время кто-то крикнул:
— Отец Иринарх идет!
Все бросились прочь из сада, и тут же послышался чей-то тихий смех, на который в суматохе ребята не обратили внимания.
Ночью, поев украденные груши, юные художники решили больше не воровать, но назавтра забыли это решение и снова направились в сад. На этот раз сторожить взялся только один паренек, но он-то и замыслил коварство.
“Не успели мы, — рассказывал очевидец событий, — приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул:
— Отец Иринарх идет!
Все мы, сколько нас там было, услыхав это, как пули попадали сверху на землю и… не поднимались с нее… Не поднимались потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больший: мы опять услыхали голос, которого уже не могли не узнать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал насчет приближения Иринарха, но нынче он не пугал нас, а успокаивал. Слова, им произнесенные, были:
— Неправда, рвите себе, Иринарх еще не идет!
Это был голос митрополита Филарета. Приподняв из травы свои испуганные головенки, мы увидели владыку Киевского и Галицкого, стоявшего у своего окна и любовавшегося, как мы обворовываем его сад… Мы потеряли все чувства от стыда; мы все как бы окаменели и не могли двинуться…
— Ну, теперь бегите, дурачки, теперь Иринарх идет!
Тут мы брызнули: опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и более красть митрополичьи груши не ходили.
Прошел день, два, три — мы все были в страхе: не призовет ли митрополит о. Иринарха и не откроет ли ему, какие мы негодяи? Но ничего подобного не было… На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целое корыто разных плодов и большую деревянную чашу меду и сказали, что это нам владыка прислал. „По какому же это случаю?“ — допытывались мы, радостно и робко принимая щедрый подарок. Но случая никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем помалкивали. Посланный сообщил только, что владыка просто сказал: „Сошлите живописцам-мальчишкам медку и всяких яблочек… Дурачки ведь они, им хочется…“ Мы эти его груши и сливы, честное слово говорю, со слезами ели и потом, как он первый раз после этого служил, окружили его и не только его руки, а и ряску-то его расцеловали, пока нас дьякон а по затылкам не растолкали”.
* * *
Лесков рассказывает и такой случай. В одном киевском доме случилось ужасное несчастье: чрезвычайно религиозная и превосходно образованная дама покончила жизнь самоубийством. Как нарочно, не было никакой возможности отнести ее поступок к умоповреждению или какому-нибудь иному мозговому расстройству. Врач не давал такого свидетельства, а без того полиция не дозволяла погребения с церковным обрядом и на христианском кладбище. Все это еще более увеличивало скорбь и без того пораженного событием семейства.
Тогда одному из родственников покойной пришла мысль броситься к митрополиту Филарету и просить у него разрешения похоронить покойницу как следует, по обрядам церкви, несмотря на врачебно-полицейские акты, которые исключали эту возможность.
Митрополит принял родственника (хотя время уже было неурочное — довольно поздно к вечеру), выслушал о несчастии, покачал головой и, вздохнув, заговорил:
— Ах, бедная, бедная, бедная… Знал ее, знал… бедная.
— Владыка! не дозволяют ее схоронить по обряду — это для семейства ужасно!
— Ну зачем не схоронить? Кто смеет не дозволить?
— Полиция не дозволяет.
— Ну что там полиция! — перебил с милосердым нетерпением Филарет. — Ишь что выдумали.
— Это потому, ваше высокопреосвященство, что врач находит, что она в полном уме…
— Ну-у что там врач… много он знает о полном уме! Я лучше его знаю… Женщина… слабая… немощный сосуд — скудельный: приказываю, чтобы ее схоронили по обряду, да, приказываю.
И как он приказал — разумеется, так и было.
* * *
Скромность киевского владыки тоже была необыкновенна. Однажды генерал-губернатор Бибиков, вернувшись из Петербурга, посетил митрополита Филарета и, рассказывая ему новости, привел слова императора Николая Павловича о церковном управлении. Слова были такие: “О церковном управлении много беспокоиться нечего: пока живы Филарет мудрый[4] да Филарет благочестивый, все будет хорошо”.
Услыхав это, как пишет Лесков, “митрополит смутился и поник на грудь головой, но через секунду оправился, поднял лицо и радостно проговорил:
— Дай Бог здоровья государю, что он так ценит заслуги митрополита Московского!
— И ваши, ваше высокопреосвященство, — поправил Бибиков.
Филарет наморщил брови.
— Ну, какие мои заслуги?.. Ну что… тут… государю наговорили… Все мудрый Филарет Московский, а я… что — пустое.
— Извините, владыка: это не вам принадлежит ваша оценка!
Но митрополит замахал своею слабою ручкою.
— Нет… нет, уж позвольте… какая оценка: все принадлежит мудрости митрополита Московского. И это кончено, и я униженно прошу ваше высокопревосходительство мне больше не говорить об этом”.
Лесков сообщает, что при этом митрополит “так весь покраснел и до того сконфузился, что всем стало жалко „милого старика“ за потрясение, произведенное в нем неосторожным прикосновением к его деликатности”.
* * *
Царь Николай I в самом деле очень ценил митрополита Филарета, и в 1839 году пожаловал его императорским орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. О трогательном отношении императора к митрополиту говорит следующий эпизод из “Мелочей архиерейской жизни”.
Владыка Филарет любил иконописное дело, считал себя в нем сведущим и довольно смело