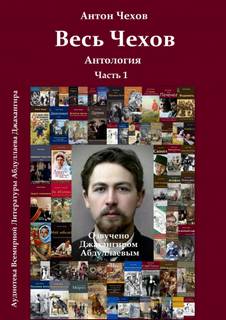Мгновения с Юлианом Семёновым - Борис Эскин
Юлиан Семенов любил повторять: «Культура – это то, что остается после того, как мы забудем все, что учили». Он был человеком высочайшей культуры, невероятной начитанности и образованности. Кругозор его познаний и интересов поражал: Рафаэль и Нико Пиросманашвили, Данте и Рильке, секреты тибетской медицины и теорема Ферми, рок-музыка и концерты опального в ту пору Ростроповича, история испанской инквизиции и дворцовый церемониал китайских императоров, загадки морских пиратов, учение академика Вернадского про ноосферу Земли, тайна свитков Мертвого моря, судьба Байкала…
При жизни Семенова отношение к нему рафинированной критики и литературных снобов было, мягко говоря, высокомерным. В принципе, детектив, как жанр беллетристики, не очень-то и признавался ими. Сегодня, когда «чес» госпожи Марининой и иже с ней заполонил книжные прилавки и библиотечные полки, когда смотришь фильмы, где не пахнет ни характерами, ни логикой поступков, ни серьезной психологией, ни элементарной писательской культурой, – понимаешь, что детективы Семенова – настоящий кладезь ума, литературного вкуса, энциклопедических знаний, элегантности стиля, документальной достоверности и вдохновенного полета фантазии. Да он просто Лев Толстой детективного жанра по сравнению с новомодными авторами!
А у него на самом деле был высокий писательский дар: и психолога, и портретиста, и знатока быта, и мастера авантюрного сюжета, наконец, утонченного стилиста. Слог раннего Семенова прозрачен и классически точен, как лермонтовская «Тамань». Его первые северные рассказы, мало знакомые читателю, – тому ярчайшее свидетельство.
Сочинением детективов он увлекся очень рано – лет в восемнадцать. До конца дней любимейшей книгой Юлиана оставался роман Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Екатерина Сергеевна вспоминает, что перед смертью он просил почитать вслух что-нибудь из Пушкина или… «Гиперболоид».
Семенов всегда вступал в «драку», когда кто-то начинал делить литераторов и вообще литературу на «высокую» и «низкую». Как в музыке – на «легкую» и «серьезную». Однажды в полемическом запале прочитал перед камерой целый «Краткий курс истории детектива».
– Кто родоначальник нашего жанра на Западе? Эдгар По – выдающийся писатель-психолог и гениальный американский поэт! Ему принадлежит одно из самых знаменитых стихотворений мировой лирики – «Ворон», и одновременно – эталонный детектив «Убийство на улице Морг». Или возьмем легендарного Александра Дюма. Разве его романы – не детективы? С другой стороны, классик жанра Конан Дойл породил не только Шерлока Холмса, но и великолепные поэтические циклы. А в русской литературе? Великий Федор Достоевский и есть главный «детективщик» отечественной литературы! Что такое его «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» как не самые настоящие психологические детективы?!..
А ведь, по сути, он прав. То, что мы называем «детективом», родилось под пером выдающихся писателей. И зачинатель жанра, пожалуй, даже не Эдгар По со своим шевалье Дюпеном, расследующим убийства на улице Морг, а гениальный немецкий романтик, прозаик, художник-живописец и композитор Теодор Амадей Гофман, сочинивший фантастическую сказку «Крошка Цахес» и очаровательную оперу «Ундина». Это он, задолго до Агаты Кристи, придумал первую женщину-сыщика – мадмуазель Скюдери, которая охотится за страшным убийцей-маньяком, терроризирующим Париж. В том же ряду стоят и авантюрные романы француза Эжена Сю «Агасфер», «Вечный жид», наконец – «Парижские тайны». Под явным влиянием последнего сочинения в середине XIX века беллетрист Всеволод Крестовский написал свои «Петербургские трущобы», пожалуй, первый удачный детективно-приключенческий роман в русской литературе. Недавно его вполне прилично экранизировали, дав телесериалу название «Петербургские тайны».
В начале ХХ столетия поэт-модернист Михаил Кузмин, один из оригинальнейших стихотворцев «серебряного века», даже сочинил рифмованную балладу-детектив «Лазарь»! До революции в России модны были истории русского сыщика Путилина и полицейско-уголовные репортажи Гиляровского.
К сожалению, после «Гиперболоида инженера Гарина» Алексея Толстого ничего знаменательного в области детективного жанра советская литература не породила. Ну, может, кроме знаменитой приключенческой ленты немого кино «Красные дьяволята» и «Сумки дипкурьера» выдающегося режиссера Александра Довженко. Отменно работал в детективном жанре украинский писатель-эмигрант Владимир Винниченко, но его книги, естественно, никто не читал в Союзе.
В то же время в зарубежной литературе традиции Конан Дойла, Гильберта Честертона и Эмиля Габорио успешно продолжали Агата Кристи, Рэкс Стаут, американец Дешил Хэммет, создатель первых триллеров, потом француз Жорж Сименон и японец Мацумото Сэйте. С мастером из Страны восходящего солнца в психологический детектив вошли социально-политические мотивы.
В СССР самым знаменитым творением популярного в народе жанра стал послевоенный кинобоевик «Подвиг разведчика», снятый на Киевской студии режиссером Борисом Барнетом в 1947 году с незабываемым Павлом Кадочниковым в главной роли. Наивный, помпезно-героический фильм с ужасающе глупыми немцами и дубовыми, всепобеждающими советскими патриотами, похожими на тот самый «славянский шкаф», который из пароля разведчика Алексея Федотова (он же Генрих Эккерт) давно превратился для советских людей в веселую анекдотическую присказку.
Были, конечно, в послевоенные годы и неплохие детективные повести, как, например, «Дипломатическая тайна» Льва Никулина или «Испытательный срок» Павла Нилина. Пользовались популярностью приключенческие романы Аркадия Адамова. Но лишь после смерти Сталина появилось первое серьезное произведение, где отрицательные персонажи выглядели не круглыми дураками, а достойными противниками, где русский разведчик представал не в виде ходульной схемы, а личностью, с тонким нутром, человеческими чувствами и даже «неправильной» любовью.
Я имею в виду детектив Юрия Дольд-Михайлика «И один в поле воин». Роман зачитывали до дыр, вскоре переписали его для сцены. Пьеса вошла в репертуар многих коллективов. (Между прочим, в конце пятидесятых в Днепропетровском театре имени Горького, которым руководил тогда замечательный режиссер, народный артист УССР Илья Григорьевич Кобринский, мне довелось играть в спектакле «И один в поле воин». Помню приезд на премьеру автора – Юрия Петровича Дольд-Михайлика).
Потом вышла на экраны очень приличная киноверсия романа Вадима Кожевникова «Щит и меч» со Станиславом Любшиным и Олегом Янковским – фильм, где борьба советской агентурной сети в гитлеровской Германии предстала перед зрителем не только своей романтической стороной, но и как тяжелейший, изматывающий, полный интеллектуального и нравственного напряжения повседневный труд.
Пожалуй, именно эта лента режиссера Владимира Басова стала своеобразным прологом культового сериала советского кинематографа – «Семнадцати мгновений весны» Юлиана Семенова и Татьяны Лиозновой.
В конце шестидесятых в русской беллетристике наступила в полном смысле слова «эпоха Семенова», который привнес в приключенческую литературу не только высокий интеллект и покоряющую реалистичность, но и большую политику, приоткрыл такие завесы недавней «секретности», от которых захватывало дух.
Писатель Юлиан Семенов