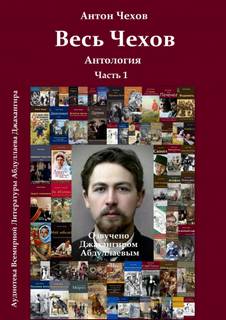Мгновения с Юлианом Семёновым - Борис Эскин
Одна из передач цикла о Семенове была посвящена теме «Крым в жизни писателя».
Предлагаю распечатку целого монолога, произнесенного Юлианом Семеновичем в тот телевизионный вечер.
«Коллеги из Крымского телевидения попросили рассказать о том, что для меня значит Крым. Я начну с любимого моего Хемингуэя. Чем гениален Хемингуэй? Тем, что у него фразы литые, они весят, они тяжелые, мысль поразительная пронзает его предложения. Вот, смотрите: «Праздник, который всегда с тобой». Как здорово сказано! Так вот для меня Крым – праздник, который всегда со мной!
Борис Эскин весело называет меня «местным писателем». Для меня это весьма лестно, горжусь этим. Готов говорить о солнечной Тавриде без конца. Но разговор о Крыме в писательской судьбе, безусловно, надо начинать не с меня.
Если посмотреть историю отечественной культуры, то отсчет роли Крыма в истории нашей словесности идет, конечно же, с Александра Сергеевича Пушкина. Крым и Пушкин – это особая тема, много исследованная, и все же не до конца. Крым и великий поляк Адам Мицкевич, Крым и Леся Украинка, Крым и Лев Толстой, Крым и Чехов. Крым и Максим Горький, Куприн, Бунин, Телешов, Максимилиан Волошин, Самуил Яковлевич Маршак, Константин Паустовский, Владимир Луговской, Мариэтта Шагинян… Поразительная плеяда литераторов, чья жизнь и творческая судьба освящена солнечной Тавридой!
Если же говорить о том, как и каким образом моя судьба оказалась связанной с Крымом, то я должен начать рассказ с 1958 года. Когда, будучи корреспондентом «Огонька», оказался в командировке в Одессе, зимой, а оттуда на теплоходе в качку, в шквал – это было прекрасно! – пришел в Ялту. Собирался здесь поработать, но неожиданно вызвали телеграммой в Москву. Надо было улетать в Китайскую Народную Республику, кстати, вместе с замечательной детской писательницей Натальей Кончаловской, моей будущей тещей.
Но с тех пор, с 1958 года для меня Крым стал полем работы. Благословенным полем работы. В то время как зимние, осенние и весенние месяцы уходили на поездки по Родине, полеты на Северный полюс, к пограничникам нашим на Тянь-Шань, на Дальний Восток, – но летом, когда я приезжал сюда, еще не живя здесь постоянно, какая-то магия подвигала меня к столу, и писалось совершенно невероятно, писалось просто неудержимо!»
– Да, Крым – это праздник, который всегда с тобой, – раскручивал свой монолог Семенов, – Никогда не забуду прекрасного поэтического вечера, устроенного в Коктебеле в далекие 60-е годы. Я присутствовал тогда на захватывающем турнире поэтов! (К слову, придумал и начал проводить эти коктебельские поэтические турниры еще в 1923 году мэтр русского стихосложения, царственный Валерий Брюсов, который специально по этому случаю написал стихотворение «Соломон». – Б.Э.) Выступали с чтением стихов блистательные Максим Рыльский, Самуил Маршак, Кайсын Кулиев, Николай Асеев, совсем еще молодой Роберт Рождественский…
С последним Юлиана Семенова связывала особенно крепкая дружба. Не случайно именно «Робика» «Юлик» попросил написать тексты песен к телесериалу «Семнадцать мгновений весны».
И Рождественский, чья волевая поэзия, близкая по духу к Маяковскому, совершенно не вязалась с обликом долговязого заикающегося губошлепа с огромными женскими глазищами – буквально за ночь сочинил строки, ставшие поэтическим знаком прославленного семеновского фильма:
Не думай о секундах свысока.
Настанет время – сам поймешь, наверное:
Свистят они, как пули у виска –
Мгновения, мгновения, мгновения…
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда,
Где первое мгновенье, где последнее…
Стихи Роберта Рождественского, положенные на музыку Микаэлом Таривердиевым, – о мгновениях и о далекой Родине («Я прошу, хоть ненадолго, боль моя…») – эти песни сериала станут всенародно любимыми и просто классическими, продолжая жить в сердцах новых и новых поколений.
– Однажды мне попалась на глаза хорошая книжица – «Легенды Крыма», – рассказывал телезрителям Семенов. – Кстати, предисловие к сборнику написал незабвенный Максим Рыльский, благословил труд собирателей. А это действительно важнейшая работа. Посудите сами, сколько легенд и мифов связано с древней землей полуострова! В первую очередь, одно из самых знаменитых греческих сказаний – об Ифигении в Тавриде. Ведь, по существу, благодаря именно этой легенде Крым больше двух тысячелетий известен всему цивилизованному миру! Каково?!
А ведь он не преувеличивал. Все, кто когда-либо прикасался к гомеровским поэмам «Илиада» и «Одиссея», сотни поколений в разных странах, даже толком не ведая, где эта Таврида, знают историю царя Агамемнона и его дочери Ифигении.
Отец отдал Ифигению на закланье, принеся в жертву богине охоты Артемиде (Диане), чтобы под ее покровительством начать поход на Трою. Но богиня на жертвеннике заменила девушку ланью, а Ифигению перенесла на облаке из Эллады в Тавриду, и сделала своей жрицей в храме на вершине скалы.
– Мне рассказывал замечательный музыковед и литератор Игнат Федорович Бэлза, что на сюжет Ифигении в Тавриде написано, как минимум, полсотни трагедий и более 70 опер, среди которых, конечно же, самая известная – Глюка. Вслед за великими греками Эсхилом, Софоклом и Еврипидом, к древней легенде «приложили руки» римляне Лукреций и Овидий, потом во Франции – Жан Расин, в Германии – Иоганн Гете, у нас – Пушкин и Леся Украинка. Точно не подсчитано, но произведений живописи и скульптуры на эту тему насчитывается не менее сотни: Ван Дейк, Пьетро де Кортони, Валентин Серов…
У нашего российского гения (кстати, сына музыкального титана – композитора Александра Серова) жрица храма богини Дианы, печально сгорбившись, сидит спиной к зрителю у берега моря, в белом, легком хитоне. В темно-синих сумерках проступает, как Рок, давящая гора с храмом на макушке. Весь колорит картины, ее щемящее индиго, эта пустыня воды и беспросветного неба по-гомеровски трагичны…
– Но, простите, я отвлекся, – спохватывается мой телесобеседник. Стало быть, речь о легендах Крыма. А это, если брать греческий период, – еще и героиня Херсонеса Гикия, и царь Митридат, и Геракл и так далее. А сколько народных сказаний появилось в позднейшие века: про гурзуфскую Медведь-гору и Бахчисарайский фонтан, про симеизские скалы Монах, Дива и Кошка, рядом с которыми теперь живу, про Орлиный залет и таинственные пещеры Чатыр-Дага. Словом, эти сказания еще собирать и собирать!
А вот недавно я услышал – то ли быль, то ли все же легенду, о церквушке – той, что недалеко от Мухалатки, на мысе над Форосом. В печатных источниках мне доводилось читать иную версию возникновения этого очаровательного, прямо-таки кукольного храма. Согласно официальным данным, церквушка поставлена в честь чудесного спасения царя Александра III. Известный факт: когда в октябре