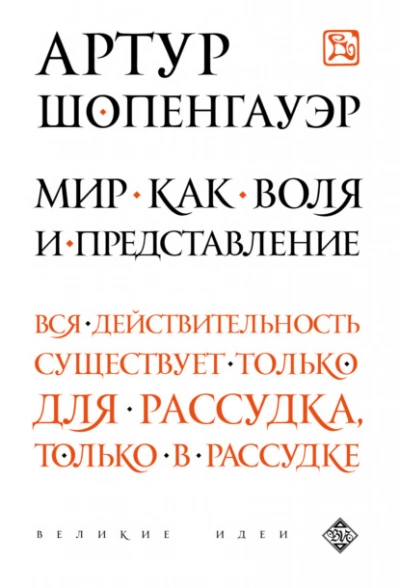Шопенгауэр. Для тех, кто хочет все успеть - Эдуард Львович Сирота
Этот подход и вправду оптимистичным не назовешь, но Шопенгауэр и не скрывает своего неприятия оптимизма. Картина мира в этом ключе рисуется ему бесконечно безрадостной, полной разочарований и страдания. Здесь большинство исследователей резонно замечают связь между характером и жизненным опытом Шопенгауэра, с одной стороны, и перенесением его на философию – с другой. Обязательно можно встретить рассуждения о том, что впечатлительный Артур с ранних лет насмотрелся на страдания других от беспомощности перед лицом творящейся истории и сам страдал от невнимания и нелюбви, – как могло это не отразиться на мировоззрении философа!
«Eсли хoчешь пoдчинить себе все, пoдчини себя рaзуму»
Место воли в познавательном процессе у Шопенгауэра можно понять по-разному. Это и некая сторонняя сила, которую человек не способен преодолеть, что порождает тщетные страдания и делает его фигурой трагической. В этом смысле Шопенгауэр полон сострадания к человечеству. Увидеть в этом взгляде отражение впечатлений от бедствий войны, нищеты и тому подобного очень соблазнительно, и соблазн этот вряд ли лишен некоторых оснований.
ПОЛИТЕИСТИЧНОСТЬ, ПОЛИТЕИЗМ
Многобожие, как, например, религиозные представления древних греков или римлян, когда разными сферами жизни правят разные боги и богини, притом различной степени могущества
Но воля – это еще и то, что вмешивается в познавательный процесс в его эмпирической составляющей. Познание в процессе достижения практических целей наиболее доступно человеку, но оно же и чревато ограниченностью и заблуждениями, ибо определяется исключительно рассудком. Его роль Шопенгауэр признаёт, но в то же время призывает не ограничиваться только им. «Лучшее сознание» – это и есть знание, вознесшееся над рассудком и освободившееся от его пут и условностей.
«Немалая часть муки существования заключается в том, что время постоянно давит на нас, не давая передохнуть, настигает нас, точно надсмотрщик с бичом»
Как же сформировать представление, не используя рассудок? Нам это кажется мистикой, желанием невозможного – и, пожалуй, нам не нужного. Примерно так же мы относимся к пафосным рассуждениям о том, как было бы здорово научиться обходиться в общении без слов, избавиться от их оков и воспарить над свинцовой вербальностью. Между тем Шопенгауэр видит такой путь.
Индийский след
Увлечение индийской философией не прошло для философа даром, хотя серьезно он стал ее изучать уже после написания «Мира…». Массово она стала популярна среди европейцев во второй половине двадцатого века, но и в начале века девятнадцатого для лучших умов она не была совсем уж terra incognita. У нее есть несколько отличительных особенностей.
МАЙЯ
Понятие индийской философии: непреодолимая граница непостижимой стороны мироздания
Во-первых, индуизм политеистичен настолько, что Бога в нашем понимании единственной высшей силы там практически нет, что и делает его не столько религией, сколько философией. Нам проще считать это отождествлением Бога и сил природы, но в восточных учениях так вопрос вообще не ставится.
Во-вторых, одним из базовых понятий индийской философии является так называемая майя – невидимая грань, пелена, завеса, отделяющая видимый, эмпирически познаваемый мир от мира, скрытого от наших органов чувств. Мы не в силах ни изменить этот мир, ни даже увидеть его – сколько ни вглядывайся. Но постичь его можно – нужно «закрыть глаза». Недаром изображения того же Будды именно таковы: глаза закрыты, на лице полная отрешенность.
В-третьих, именно эта особенность фигурки индийского божества на письменном столе Шопенгауэра и есть тот способ познания, что предлагает великий философ. Отрешенность от текущей реальности, погруженность в себя и медитация дают нам «прямое знание» – понятие, далекое от традиционных европейских способов постижения мира. Более того, это понятие чуждо и исламской, и иудейской, и христианской, а еще раньше – и зороастрийской гносеологической практике и традиции.
«Прямое знание» достигается одномоментным озарением в процессе длительного созерцания – именно созерцание без волевого участия в делах мира и понимается Шопенгауэром под витиеватыми описаниями «лучшего сознания». Чуть ранее он замечал: «Главная ошибка всей предшествующей философии состоит в том, что она как наука пыталась дать исходящее от основ опосредованное знание даже там, где оно дано непосредственно».
«ПРЯМОЕ ЗНАНИЕ»
Знание, полученное без анализа и вообще какого-либо познавательного труда; открывается одномоментно и полностью, но не содержит никаких доказательств и подтверждений. Концепция «прямого знания» состоит в том, что знание можно и желательно получать непосредственно от его неуловимого всемирного источника, минуя эксперименты и логические умопостроения. Но обладают такой способностью далеко не все
Есть весьма броское и метафоричное определение такого пути: «Одна правда и никакой логики». В «Мире…» оно не встречается, но, право же, оно бы украсило эту книгу!
И если у того же Канта подчеркивается, что эмпирическое восприятие предметов через органы чувств отнюдь не означает их иллюзорности, то Шопенгауэр весьма скептичен в оценке рассудочных способов познания, как, впрочем, и в оценке возможностей обретения человечеством того самого «лучшего сознания».
«Не удивление, а недоумение и печаль суть начало философии»
В этом его тоже потом обвинят, как и вообще в пессимизме и иррационализме, – он предлагает способ, которым вряд ли кто-то сможет воспользоваться. Это кажется бессмысленным и нереальным: ради «лучшего сознания» Шопенгауэр предлагает освободить созерцание от воли. А как еще это понимать: «Мир как вещь сама по себе есть великая воля, которая не знает, чего хочет; она даже не знает не только чего хочет, но даже и того, что она является волей и ничем иным». И чтобы освободиться от воли, ее нужно также познать, в чем и состоит противоречивое «ядро мира».
ЭМПИРИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Восприятие из практического опыта, а не из умозаключений
При этом некоторые не без ехидства подмечают, что в собственной жизни Шопенгауэр стремился к созерцанию без участия именно в практической, а не умозрительной сфере, всячески избегая вовлеченности в происходящие вокруг великие события вроде войны и так далее.
Конечно, нельзя считать «Мир…» проповедью индийской философии. «Европеистичность», если можно так выразиться, этой работы несомненна, притом она не выглядит чем-то совсем чуждым и экзотичным в ряду трудов других европейских философов. Понятийный аппарат и терминологический набор ее вполне привычен европейскому читателю подобного рода литературы. Но сама философия Шопенгауэра идет вразрез с тогдашним философским трендом, настроенным на прогресс и великие достижения мысли, – он видит несовершенство мира неизменным и протяженным во времени. И выглядит все это тем печальнее, что в сердцевине такого учения находится цельный во всех своих качествах человек,