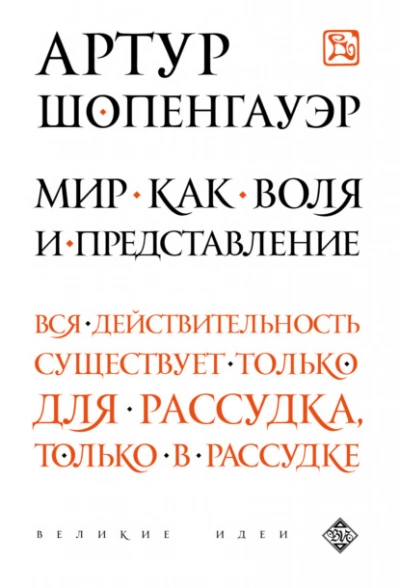Шопенгауэр. Для тех, кто хочет все успеть - Эдуард Львович Сирота
Кончилась эта житейская коллизия тем, что мать в ультимативной форме потребовала от сына уехать из ее дома, что он в конце концов и вынужден был сделать в конце весны 1814 года.
Жизнь цвета Гёте
Второй веймарский период жизни Артура Шопенгауэра примечателен, однако, отнюдь не только бытовыми раздорами. Вскоре после поселения Артура у матери его наконец-то заметил Гёте, до сего времени не обращавший на него никакого внимания. Притом это произошло еще и по его инициативе – на одном из салонных вечеров Гёте сам подошел к молодому доктору и выразил одобрение его сочинениям, в первую очередь диссертации. Затем Артур был приглашен к Гёте и в еще один близкий Гёте салон.
«Посредственность озабочена тем, как бы убить время, а талант – как бы время использовать»
Интерес оказался взаимным: великий современник нашел в лице молодого доктора философского собеседника, с интересом воспринимавшего мировоззренческие взгляды мэтра. Не обходилось и без «наставничества». Сохранилась запись, сделанная Гёте в альбоме Шопенгауэра: «Хочешь радоваться себе, придавай ценность миру». Видимо, Гёте хотел такими словами несколько развеять мрачность мировосприятия Артура и почувствовал его экзистенциальную дилемму: желать признания у человечества, к которому ты исполнен пренебрежения.
УЧЕНЫЙ-УНИВЕРСАЛ
С античных времен и до XVIII века распространенный тип ученого, занимавшегося одновременно самыми разными науками, притом не поверхностно, а серьезно, вплоть до великих открытий в нескольких из них. Яркие примеры: Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов
На какое-то время Гёте увлек Артура темой, занимавшей его многие годы. Известный нам в первую очередь как литератор, Гёте не был чужд и философского осмысления естественнонаучных проблем. Одной из них была природа света и цвета. Господствовавшая тогда и сейчас теория Ньютона гласила, что цвет – это часть разложенного на составляющие белого света. Гёте это представлялось однобоким трактованием, лишенным всякой человеческой составляющей. А между тем один и тот же цвет в разных условиях воспринимается человеком по-разному, то есть имеет не только объективную, но и субъективную сущность. Над этой теорией Гёте работал почти двадцать лет, увенчав этот труд двухтомным трактатом «Очерк учения о цвете».
Но заинтересовавшийся этой темой Шопенгауэр в своем видении вопроса предстал не только и не столько как сторонник Гёте, а как продолживший и углубивший его изыскания – в частности, он затронул вопрос различного цветовосприятия в зависимости от строения глаза наблюдателя. Развитие этой мысли привело к отрицанию изначального гётевского посыла о происхождении света и цвета из некоего «феномена темноты».
Называлось это сочинение «О зрении и цвете» и, как отмечают исследователи, оно содержало не столько теорию цвета, сколько шопенгауэровское видение процесса познания. Интересный феномен, встречающийся, если приглядеться, довольно часто. Чем бы ни занимался человек, он, сознательно или нет, касается «своей» темы. Можно обмануть своих знакомых, журналистов и исследователей, даже самого себя – но не свои стихи, картины, научные работы и так далее. Именно поэтому изучать человека лучше всего в первую очередь по его творчеству, а уж потом по всему остальному. Даже самый лучший биографический экскурс не откроет вам и половины мира заинтересовавшего вас человека, оставаясь лишь введением в этот мир.
«Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты»
Как ни странно, именно на почве этой работы и произошло охлаждение отношений между новоиспеченными друзьями. Шопенгауэр послал свой труд Гёте, тот долго не отвечал, а потом написал явно поверхностное одобрение и рекомендации по организации издания. Это очень задело молодого философа, надеявшегося на предметное и детальное обсуждение его работы. А для Гёте это было, видимо, тоже не очень приятно, ибо из предисловия к работе следовало, что именно она венчает ранее неполные изыскания, то есть автор, потратив пару недель, претендует едва ли не на лавры главного соавтора теории, которой Гёте занимался многие годы.
Знакомый Шопенгауэра Давид Ашер так описал первую личную встречу Артура с Гёте: «Это случилось на одном из приемов Иоганны Шопенгауэр, на который явился Гёте. Однажды, когда в комнату вошел молодой доктор философии, Гёте внезапно поднялся со своего места и молча стал прокладывать себе дорогу сквозь толпу стоявших гостей; он подошел к Артуру и, подав ему руку, всячески расхвалил его сочинение, которое показалось ему весьма значительным и сразу расположило его к молодому ученому»
Шопенгауэр опубликовал свою работу весной 1816 года и саркастически написал Гёте: «Я просил бы Вас высказать суждение о ней, если бы у меня была надежда когда-нибудь получить его». Из ранее высказанного пожелания прислать реферат для ознакомления и еще по некоторым признакам Артур сделал вывод, что Гёте его работу просто не читал. На этом краткая дружба закончилась.
Столица без университета
После отъезда из Веймара Шопенгауэр недолго сомневаясь выбрал местом для жительства столицу Саксонии Дрезден, примечательный как своей культурно-духовной жизнью, так и отсутствием университета, а значит, и профессуры, к которой у него уже успело сформироваться неприязненное отношение. Город сильно пострадал во время недавних боевых действий, переходя из рук в руки, но все это было позади и мало интересовало нового жителя.
Львиную долю времени его жизни занимали работа в кабинете над будущей философской теорией и выходы в оперный театр и книжные магазины. При таком образе жизни бытовые вопросы отходили на дальний план, а общение с людьми сводилось к минимуму. Он не страдал от одиночества, полагая его разумной рабочей аскезой, позволяющей не тратить время на пустые разговоры, а когда изредка этот настрой менялся, то он легко находил себе компанию – аудиторию в местном общественно-литературном «Хоровом кружке», где упражнялся в полемике и саркастическом ниспровержении мнимых авторитетов публики.
ДРЕЗДЕН
Столица Саксонии, крупный промышленный и культурно-исторический центр, упоминается как город с 1206 года. Полностью уничтожен англо-американской авиацией в апреле 1945 года, ныне восстановлен
Лишь два человека соприкоснулись с ним в этот период относительно близко. Знакомый еще по салону матери И. Г. Квандт играл своеобразную роль связи с прошлым, поддерживая с Артуром обсуждение общих веймарских знакомых и, конечно, матери и сестры, хорошо ему известных. Он уловил и позднее отметил, вспоминая то время, что отношения с семьей значили для Шопенгауэра явно больше, чем он представлял окружающим и самому себе.
«Не говори своему другу того, что не должен знать твой враг»
Ф. А. Шульце, он же литератор Фридрих Лаун, –