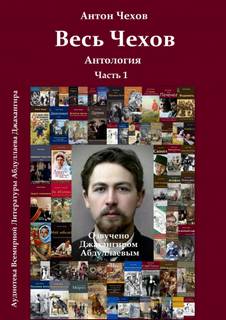Мгновения с Юлианом Семёновым - Борис Эскин
Вот краткая, но выразительная летопись кровавых перетасовок в высших эшелонах контрразведки СССР, начиная с 1933 года:
Марк Гай – глава отдела, человек интеллигентный и образованный (гимназия, художественное училище, юридический факультет Киевского университета), после трех лет пребывания на посту в Москве, отправлен в Сибирь и вскоре расстрелян.
Израиль Леплевский, старый большевик, чекист с 1918 года. Пробыл в должности руководителя военной контрразведки год. Переведен на Украину, арестован, расстрелян.
В 1937-м главой «особистов» стал Николай Журид, как и Марк Гай, получивший образование на юридическом факультете Киевского университета, окончивший военное училище в Одессе. Проработал в Москве девять месяцев. Арестован, расстрелян.
Журида сменил на посту ленинградец Леонид Заковский (Штубис), пошел на повышение – стал заместителем наркома внутренних дел. В 1939-м расстрелян.
Затем несколько месяцев отделом руководил Николай Федоров. Расстрелян в 40-м.
Выпускник Военной академии имени М. В. Фрунзе Виктор Бочков был главным контрразведчиком страны аж целых полтора года, затем его внезапно назначили генпрокурором СССР. Он единственный из руководителей управления, кто выжил и благополучно дотянул до пенсии.
Перед самой войной хозяином рокового кабинета стал Анатолий Михеев. Когда начались боевые действия, он отбыл в штаб фронта, оборонявшего Киев, попал в окружение и в сентябре 1941-го погиб.
С этого дня и до конца войны советскую контрразведку возглавлял жесткий и мрачный генерал Виктор Абакумов (к слову, один из организаторов убийства Соломона Михоэлса). В 1951 году по приказу Берия его арестовали. Смерть Сталина на время спасла черного дьявола от расстрела. Но в декабре 1954-го, уже при Хрущеве, он отправился на тот свет следом за Лаврентием Павловичем Берия, к своим предшественникам на посту руководителя СМЕРШ.
В романе «Отчаяние», завершающемся 1953-м годом, есть примечательная сцена.
Сталин, услышав фамилию разведчика – «Штирлиц», спрашивает:
– Еврей?
Ему отвечают:
– Русский.
– Штирлиц – не русское имя. Пройдет на процессе, как еврей, вздернем на Лобном месте вместе с изуверами.
Вскоре Исаев оказывается во Владимирском политическом изоляторе – полуослепший от истязаний, беззубый, с перебитыми ногами…
В конце романа, уже после смерти «кремлевского горца» Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов вручает Владимирову-Штирлицу Золотую Звезду Героя Советского Союза. Через месяц полковник внешней разведки уходит в запас, начинает работать в Институте истории по теме «Национал-социализм, неофашизм; модификации тоталитаризма».
«Отчаяние» заканчивается испепеляюще ироничной фразой, стилизованной на манер идеологических резолюций несгибаемых коммуняк:
«Ознакомившись с текстом диссертации, секретарь ЦК Суслов порекомендовал присвоить товарищу Владимирову звание доктора наук без защиты, а рукопись изъять и передать в спецхран».
Вот и вся судьба Штирлица – удивительной «придумки» Юлиана Семеновича Семенова, сочинителя самых популярных советских детективов.
Не только читатели в своих многочисленных письмах буквально требовали от создателя полюбившегося всем образа советского разведчика продолжения книг о нем. Но и многие зарубежные коллеги Семенова по детективному жанру призывали к тому же. В одном из писем Жорж Сименон убеждал своего друга: «В своих политических хрониках Вы имеете уникальную возможность через судьбу Вашего Штирлица показать историю недавнего прошлого, она того заслуживает».
Разведчику Владимирову-Исаеву, Максу Отто фон Штирлицу писатель Юлиан Семенов посвятил тринадцать (!) больших сочинений и одну чудесную новеллу – «Нежность», действие которой происходит в 28-м году. Она рассказывает о трогательной любви Сашеньки Гаврилиной и молодого Максима Исаева.
Многие из людей моего поколения и старше хорошо помнят, какое потрясающее впечатление произвел роман «Семнадцать мгновений весны», который был опубликован в журнале «Знамя» в середине 69-го года. Книга захватывала с первых строчек.
«Сначала Штирлиц не поверил себе: в саду пел соловей. Воздух был студеным, голубоватым, и, хотя тона кругом были весенние, февральские, осторожные, снег еще лежал плотный и без той внутренней, робкой синевы, которая всегда предшествует ночному таянию.
Соловей пел в орешнике, который спускался к реке, возле дубовой рощи. Могучие стволы старых деревьев были черные; пахло в парке свежезамороженной рыбой. Сопутствующего весне сильного запаха прошлогодней березовой и дубовой прели еще не было, а соловей заливался вовсю – щелкал, рассыпался трелью, ломкой и беззащитной в этом черном, тихом парке.
Штирлиц вспомнил деда: старик умел разговаривать с птицами. Он садился под деревом, подманивал синицу и подолгу смотрел на пичугу, и глаза у него делались тоже птичьими – быстрыми, черными бусинками, и птицы совсем не боялись его.
«Пинь-пинь-тарарах!» – высвистывал дед.
И синицы отвечали ему – доверительно и весело.
Солнце ушло, и черные стволы деревьев опрокинулись на белый снег фиолетовыми ровными тенями…»
Вот такой трогательный, лиричный запев. И вдруг – резкие цифры посреди страницы обрывают новеллу:
12. 2. 1945 (18 часов 38 минут)
Все. Четко, с астрономической дотошностью обозначено начало сюжета.
Мгновение номер один.
Первый, типично семеновский диалог между Штирлицем и пастором Шлагом:
« – Как вы думаете, пастор, чего больше в человеке – человека или животного?
– Я думаю, что того и другого в человеке поровну.
– Так не может быть.
– Может быть только так.
– Нет.
– В противном случае что-нибудь одно давно бы уже победило.
– Вы упрекаете нас в том, что мы апеллируем к низменному, считая духовное вторичным…»
Умная, философичная манера письма в сочетании со строго документальной и лаконичной тканью прозы, авантюрный сюжет, обилие «совершенно секретной» информации, яркие и достоверные образы героев, как «наших», так и врагов, – все это подкупало и мгновенно сделало «Мгновения» самым популярным и увлекательным чтивом «самого читающего» на планете народа.
Не удивительно, что уже спустя три года книга была экранизирована, и телесериал, блестяще сработанный Татьяной Лиозновой, стал культовой лентой советского кинематографа.
Известный американский исследователь русской литературы Вальтер Лакер, много занимавшийся изучением творчества Семенова, говорит:
«Штирлиц – герой нашего времени. Рыцарь, живущий по законам короля Артура. Он не совершил ни одной подлости и поэтому никогда не устареет».
На мой взгляд, главное достоинство романа «Семнадцать мгновений весны» в том, что Семенов великолепно и обнаженно показал главное в работе разведчика: процесс его мышления, его логических построений и умозаключений. Не случайно постоянным рефреном звучит в тексте фраза – «Информация к размышлению». Она ключевая, она – разгадка всего образного строя произведения. Главное оружие разведчика – ум. Это важнее умения стрелять. Информация, размышление, сопоставление фактов, выводы – вот в чем заключается работа разведчика-нелегала.
Однажды Юлиан Семенович,