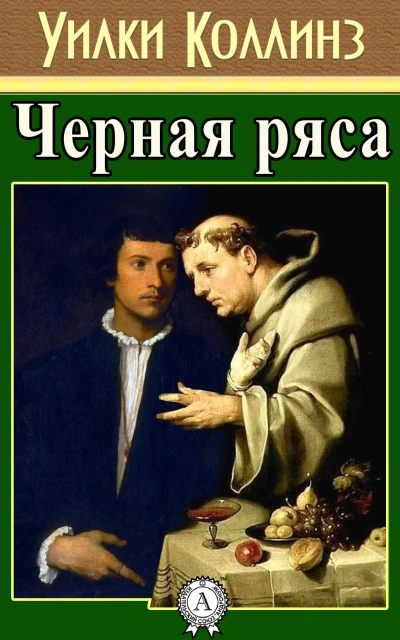Сто жизней Сузуки Хаято - Мария Александровна Дубинина
Не выдержав, он сорвался на бег. В одном исподнем становилось прохладно, но нетерпение подогревало кровь. Хаято пробежал под перекладиной торий, за которыми начиналась территория оммёдзи, выбравшего эту гору своей обителью. Уже зажглись садовые фонари под раскидистыми ветвями карликовых деревьев, их посадил учитель – он многое здесь сделал своими руками. С каждым шагом, с каждый вдохом Хаято понимал и вспоминал все больше о том, что его окружало сейчас, и все равно не мог почувствовать себя на своем месте. Что-то упорно ускользало от него.
Прыщавый сидел на камне возле порожков одноэтажного строения в традиционном стиле, сёдзи были задвинуты, и на их фоне внутри двигалась фигура в просторной одежде.
– Явился! – воскликнул прыщавый. – Стыд-то какой! А если бы кто увидел, как ученик Куматани-сэнсэя носится по горе голышом? Имей в виду, мы бы притворились, что знать тебя не знаем.
И гордо скрестил руки на груди.
Хаято пытался отдышаться после бега с препятствиями, поэтому ответил не сразу. Собственно, все, что он мог сказать, это:
– А ты кто еще такой?
Лицо прыщавого пошло красными пятнами.
– Я? Я?! Я кто такой?! – он едва не захлебывался этим громогласным «я». – Ты что, совсем ум потерял? Не узнаешь своего сэмпая?
– У меня только один сэмпай, и его зовут Рюичи. Где он? Я лучше с ним поговорю.
– Ну ты и шутник. Поговорит он с ним, как же…
Хаято не собирался слушать не пойми кого и попытался пройти мимо него в дом, да не тут-то было. Наглец бросился наперерез, и тут сёдзи разъехались, и на улицу вышел Куматани Акира, таинственный оммёдзи с горы Канашияма.
Даже в простом кимоно цвета свежей зелени, с распущенными волосами, он приковывал к себе внимание. Было в нем что-то, что заставляло слушать его, верить ему, доверяться. Хаято чувствовал его силу, но она не казалась подавляющей, напротив, дарила ощущение безопасности. И Хаято отпихнул назойливого пацана в сторону и смело предстал перед учителем.
– Какой сегодня день? – спросил он первым делом.
– Десятый день месяца сливы[15], – спокойно ответил учитель и едва заметно улыбнулся. – Я вижу, тебе уже гораздо лучше, раз отдыху ты предпочел прогулку по окрестностям.
– Месяц сливы… – пробормотал Хаято. Память подсказала, что речь о марте. – Значит, ничего еще не случилось.
И не было всепожирающего пламени, не было криков агонии и смрада сгорающей заживо плоти. Не было и родного лица, застывшего в равнодушной, жестокой маске. «Это все для тебя…»
– Но кое-что все же случилось, – заметил учитель, и прыщавый воспользовался случаем наябедничать.
– Сэнсэй! У него совсем с головой плохо стало, еще хуже, чем было, – противным тоном отличника и подхалима затараторил он. – Он даже смеет делать вид, будто не знает меня. Меня! Согу Киёхико, потомка императора Когэн.
– Впервые слышу, – бросил Хаято, не оглядываясь. – Куматани-сэнсэй, что со мной случилось на самом деле?
Куматани Акира вздохнул, покачал головой и махнул рукой кому-то в глубине дома.
– Рю-кун, налей нам с Хаято твоего особенного чая, – велел он. – У кое-кого накопились вопросы.
Договорив, он скрылся в доме, и Хаято, бросив на обиженно надувшего щеки (еще бы, его же не пригласили пить чай с учителем) Киёхико победоносный взгляд, отказался и, разувшись и войдя под крышу, прикрыл за собой сёдзи.
Кажется, прежде Хаято не доводилось здесь бывать, что странно – разве он не один из учеников оммёдзи с Канашиямы? Но, похоже, в святая святых был вхож только старший из них, Рюичи. Он встретил кохая спокойным взглядом и отстраненным кивком и занялся приготовлением травяного чая. Почти сразу по комнате поплыли дивные, немного терпкие ароматы. Жилище сэнсэя не отличалось богатством или особым изяществом убранства, напротив, от него веяло сдержанной скромностью. Одного напольного фонаря как раз хватало, чтобы залить теплым светом низкий стол в центре, заваленный свитками и деревянными табличками. Куматани-сэнсэй, не особо церемонясь, сдвинул их на край, и часть рукописей упала на татами.
Хаято обратил внимание на домашний алтарь с бронзовой курильницей, от которой поднимался лёгкий сладковатый дымок, и на развешанную на одной из стен каллиграфию – стихи и изречения, написанные самим учителем.
– Ожидал большего? – с хитрой улыбкой спросил сэнсэй и, расправив рукава, сел на дзабутон[16] возле стола. – Разве обо мне не говорят люди, «этот человек воистину благороден и отринул мирские блага»?
Если это была цитата, то Хаято не слышал ее раньше – или забыл. Он не стал мяться и сел на предложенное место. Когда адреналин схлынул, он ощутил и холод, и усталость, так что чай пришелся как раз кстати. Рюичи – высокий юноша чуть постарше Хаято, с гладкими длинными волосами в хвосте, одетый в мятно-зеленое кимоно и фиолетовые, с геометрическим орнаментом, хакама, – поставил на стол поднос с чайником и сам разлил его по чашкам, после чего почтительно опустился на колени чуть поодаль. И все это, храня строгое молчание.
Хаято прокашлялся и, пригубив действительно вкусный напиток, вопросительно уставился на учителя.
– Ты вернулся без Ишинори, – заметил тот.
Хаято сильнее сцепил зубы, чтобы не ляпнуть лишнего. Не дождавшись ответа, сэнсэй соединил пальцы в «домик» у подбородка и с хитрым прищуром зеленовато-карих глаз продолжил:
– Прежде вас было не разлучить ни на мгновение. Стало быть, болезнь и впрямь оказалась серьезнее, чем я думал.
– Что за болезнь? – спросил Хаято.
– Мне это неведомо. Не знает названия и Ишинори. Странная лихорадка свалила тебя с ног во время тренировки у пруда, и повезло, что Ишинори и Рюичи вовремя вытащили тебя из воды, иначе все могло закончиться хуже. Ты весь горел, будто в огне, бормотал странные слова. Никто не мог тебя понять. Что такое «метро»?
– Это… – Хаято растерялся. – Поезда, которые курсируют по подземным тоннелям под городом.
– Поезда? – удивился учитель и подался вперед. – Это какое-то заклинание? Я о нем не слышал.
– Это транспорт, – ответил Хаято и помотал головой. – Что я несу?
– Хороший вопрос, ответ на который мы едва ли узнаем, – отозвался учитель и прикрыл глаза. – К счастью, теперь ты пришел в себя, пусть твоя ки и изменилась.
Хаято отчего-то напрягся, хотя минуту назад он и думать не думал ни о какой ки