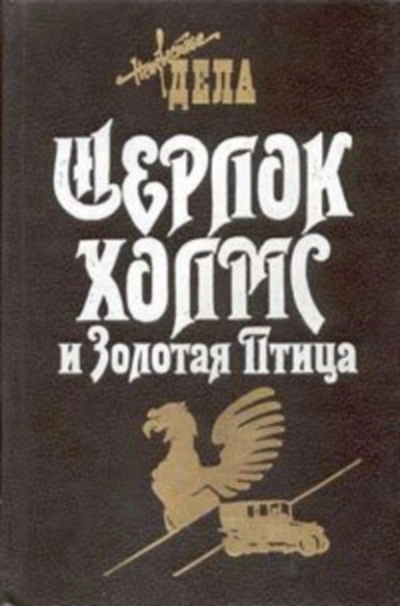Принцесса крови (ЛП) - Хоули Сара
— Она любит розовое.
— Лишь бы к нему не прилагалось кипящее масло.
Я вскинула взгляд. Свет ключа заскользил по его лицу, высветил скулу и острый излом челюсти. Не поймёшь, шутит ли — с Калленом это всегда сложно.
— Кипящее масло? — уточнила я.
— Старый приём обороны. Фронтальный штурм срывается, когда сверху начинает изливаться такое. — Он чуть повернул ко мне голову, и свет поймал остальное — и меня опять пронзила мысль, какой же он красив. Чертёж лица строг и почти суров, а глаза… в них можно утонуть.
Хватит, одёрнула я себя. Перестань так думать.
— Люди так не делают? — спросил он.
— Что именно? — я потеряла нить.
— Масло. Слышал, в осаждённых замках так и поступали.
Он говорил об убийствах, а я разглядывала, как сияют у него глаза. Прекрасно, Кенна.
— Я жила не в замке, — заставила я себя сосредоточиться. — В хибаре с одной комнатой. Торговала торфяными брикетами и болотным хламом.
Как ни горьки слова, тоска по тому месту всё равно кольнула. Я видела его ясно: связки трав под балками, иссечённый стол, солнечный зайчик в кривом стекле.
— Расскажешь мне? — тихо спросил он. — Откуда ты. По чему тоскуешь.
Вопрос был печальный, и я удивилась смене настроения — вдруг то был мост к разговору, который мы оба понимали: нечто за уязвимость, нечто за тайну.
— В моей деревне меня не любили, — сказала я. — Место нередко было злое. Люди узкие — девчонка в штанах им была поперёк горла; благочестивые — больше любили далёких фейри, чем соседей. Жили мы от трапезы до трапезы, и одной дурной жатвы или одной лихорадки хватало, чтобы нас добить.
Я начала не с того конца. Он спросил, по чему я скучаю, а я перечисляла, что не люблю. Но ведь можно ненавидеть и любить одно и то же место. Наверное, это и требуется от земли, на которой мы выросли. Нужно уметь показать на карту и сказать: «Вот где я была», — чтобы объяснить самой себе, почему место, где я сейчас, — лучше.
— Но там было красиво, по-своему, грубовато, — продолжила я. — Всё чуть кривое: дома, прилавки на рынке, трубы. Будто великан поднял город и слишком резко шлёпнул обратно. — Я улыбнулась, вспомнив ряды накренившихся труб, выпускавших дым в рассветное небо. — А вокруг — красота. К востоку вересковые пустоши, к югу — лес, на западе горы чертят горизонт. А на севере — Болото. — Ком подкатил к горлу. — Я обожала это проклятое Болото. Воняло местами, опасное, и одна из худших ночей в моей жизни случилась именно там, но там было столько чудес. Мы жили на окраине, и на рассвете я ходила туда рыбачить — вытаскивала со дна безделицы, обронённые давным-давно.
— «Мы», — негромко повторил он, не отводя взгляда. — Ты сказала: «мы жили на окраине».
Мы уже сбавили шаг, и он не торопил, да и мне больше не хотелось спешить. Меня уносило в память: летнее солнце на лице и ледяной зимний ливень, шлепающий по плитам; запах торфяного дыма; розово-золотой клин рассвета на горизонте. Тёплые мозолистые ладони, сжимающие мои, и синие глаза, улыбающиеся сверху.
— Мы с мамой, — голос сел. — Она была травницей, пальцы у неё всегда были окрашены в жёлто-зелёный. У неё был самый красивый смех, но она всегда прикрывала рот ладонью, будто ей неловко. И она так отчаянно боролась. — За нас, за своё здоровье, за мечты, которые сгорели, едва успев родиться.
Тропа впереди расходилась. Направо — к Дому Земли, налево — в сторону грота.
— Налево, — сказала я, благодарная за паузу, чтобы собраться.
Я перебирала слова — что ещё ему сказать, — когда заговорил Каллен:
— Мне нравится слушать про твоё прошлое.
— Правда?
— Приятно представить мир твоими глазами.
— Не понимаю почему.
— Возможно. — Он выглядел печальным. — Что случилось с твоей матерью?
Воздух стал острым в грудной клетке.
— Умерла. Заболела, и это длилось долго. — Не было смысла говорить остальное, но я всё равно призналась: — В последние минуты она молила фейри о милосердии.
Каллен промолчал.
— Мне жаль, Кенна.
Эти простые слова легли куда-то глубоко и тихо. Он не предлагал философии, утешений и остроумия. Ему было жаль, что она умерла, жаль — как, и жаль, что фейри не помогли.
— Спасибо, — выдохнула я, глотая слёзы. — Давненько мне этого не говорили.
***
Смотровые щели, из которых открывался вид на грот, были узкими трещинами в породе — разве что стрела пролезет. Я щурилась вниз, на хлопочущих Низших из Иллюзий и Света. Одни ставили по обе стороны помоста решётки, увитые розовыми и жёлтыми цветами, другие длинными шестами подвешивали к крюкам баннеры. На сиреневой ткани был герб, мне не знакомый, но смысл угадывался: серебряная корона над вставшим на дыбы единорогом, по кругу — цветы. Кайма — цвета пунцовой розы.
— Розовое, — прошептала я Каллену, отступая, чтобы он тоже посмотрел. — Не кипящее масло.
Он чуть согнулся, заглядывая в щель:
— Пока нет.
Я могла перейти к другой трещине, но не хотела отходить. В Каллене всегда было это странное притяжение — я чувствовала его даже тогда, когда не должна была, даже когда ненавидела его. А теперь, зная его секрет, это стало куда сильнее.
Он был злодеем Мистея, но я знала: он и герой.
Не смотри, что делают люди, когда на них глядят, говорила мне мать. Замечай, что происходит в остальное время.
Больше двухсот лет. Сорок шесть спасённых жизней — девяносто две, если считать и людей, которым не пришлось умирать. Ни славы, ни благодарностей.
И наверняка он оборвал куда больше, чем девяносто две жизни. Невозможно оторвать Каллена-спасителя от Каллена-шантажиста и Каллена-убийцы: он — всё это сразу. Были убийства, которым нет оправдания, дурные и эгоистичные поступки, преступления, которые я бы осудила как человек и, возможно, осуждаю сейчас. Но то, что отзывалось во мне на самой глубокой частоте, — он ничего не пытался приукрасить.
Когда снова настала моя очередь, я увидела, как вносят лестницы — натягивать шёлковые ленты между сталактитами. На столы ставили вазы, набитые перьями, Низшие таскали из служебных проходов ящики со стеклом и бочки с вином.
— Гвенейра говорит, через несколько дней здесь будет маскарад Имоджен, — сказала я. — Видимо, прошлому балу ей не хватило острых ощущений. — Об этом я узнала от Лары, которая узнала от Гвенейры на танцах, и теперь, когда подозрение оформилось, не верилось, что я раньше не замечала, что между ними происходит.
Каллен недовольно хмыкнул:
— Гвенейра знает слишком многое.
Я отвела взгляд от щели и с усмешкой посмотрела на него:
— Неприятно, что ты не единственный лазутчик?
— Да, — буркнул он, и мне пришлось прикрыть рот ладонью, чтобы не рассмеяться. — Понятно, что у Друстана должен быть свой шпион. Я просто не понимаю, как она добывает сведения. Ни разу не слышал, чтобы она кого-то шантажировала.
— Есть методы и кроме угроз и шантажа.
Он поморщился:
— Возможно.
— Мог бы попробовать дружить, — сказала я полушутя. — Очаровывать — и тебе бы всё рассказывали.
Он болезненно передёрнул плечом:
— Нет. Не мог.
Я тут же пожалела о колкости и, не найдя слов, снова уткнулась в грот.
Через полчаса самым «зловещим» оказалось то, как один фейри слишком усердно натирал канделябры. Я зевнула так широко, что хрустнула челюсть.
— Похоже, Имоджен действительно всего лишь украшает зал к маскараду, — выговорила я.
Каллен мельком улыбнулся, глядя на меня:
— Ты валишься с ног.
— Объявим это пустым следом? — Веки тяжелели, в голове поднималась ташнотная ватность недосыпа. — Или постоим ещё?
— Хватит.
— Надо было тренироваться.
— Это тоже часть ремесла шпиона, — покачал он головой. — Смотришь и слушаешь всё — иногда это важно, иногда нет. Только когда сведёшь достаточно крупинок, проявляются узоры.
— И какие узоры ты видишь? — спросила я, отходя вместе с ним от грота.
— Заметила перья на столах?
— Да. Блестящие, алые, с золотой окаёмкой — ни у одной птицы таких не видела.