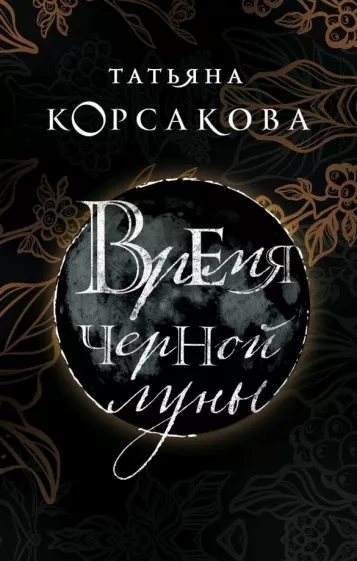Похвала Сергию - Дмитрий Михайлович Балашов
Приблизил ли он к монахам святой Афонской горы? Достиг ли умной молитвы? Узрит ли он, как они, фаворский свет в келье своей? Сергий не думает сейчас об этом. Он вообще не думает такое и о таком. Сейчас он славит Господа и будет славить его по всяк час – в келье и в лесу, на молитве и за работой, с водоносами или топором в руках, – его и Пресвятую Богородицу, извечную заступницу сирых. И вой ветра, и волки, и снег, и стужа отступят от него, утомясь, обезоруженные упорством монаха.
Воет ветер. Высоко и жалобно гудит, проносясь над мертвой землей. Сергий тушит огарки лучин, опуская их в снег, потуже затягивает пояс. Теперь надобно дойти до дому, совершить скудную трапезу, истопить печь и, вновь прейдя из хижины в холодную келью, творить молитвы, вслушиваясь безотчетно в затухающий метельный вой.
После, перед сном, прежде чем прикорнуть на мал час на своем твердом ложе, он еще помянет за здравие всех близких, и особо брата Стефана с чадами, и за упокой – родителей своих и Нюшу, супругу Стефана. С утра опять надо чистить снег, чинить огорожу, принести воды и топтать дорогу в лесу: авось до него доберется, хотя к вечеру завтрашнего дня, иерей из Хотькова!
А ветер воет в безмерных просторах вселенной, приходя из неведомых далей и уходя в вечность, воет и плачет, оплакивая все живущее на земле, и злится, сотрясая затерянный в лесу крохотный храм, и яро засыпает снегом хижину с кельей, в коих один неведомый почти никому монах молит Господа, и благодарит, и славит мир, созданный величавой любовью, словно бы незримые токи мировых энергий взаправду пересеклись и скрестились именно здесь и именно в нем, дабы воплотиться впоследствии в свет, осиявший русскую страну и поднявший ее из праха порабощения к вершинам мировой славы.
Глава девятнадцатая
Неведомо, знал ли Сергий в эти долгие месяцы лесного искуса о том, что происходит в стране? Ведал ли о том страшном бремени, которое свалилось на плечи Симеона Гордого после смерти его родителя, Ивана Калиты? Ведал ли о том, как этот князь, отмеченный знаком рока, мужественно и большей частью удачно спасал наследие своего отца, избегая войн, склонял к союзу соседних князей, сумел удержать в руках великое княжение, на которое зарились и суздальские, и тверские князья, сумел стать другом хана Джанибека (есть масса свидетельств того, что Симеон чем-то понравился хану, который даже и после смерти князя остался верен своему улуснику). Народная память скорее удерживает героические страницы прошлого, легенды о боях и походах, об «одолениях на враги»; те же, кто готовил саму возможность грядущих одолений, обычно остаются в тени, про них не слагают легенд, и имена их не окружены ореолом венценосной славы. Князь Симеон, сумевший «сохранить и приумножить», был именно таким деятелем. До Хотькова и Радонежа, а следовательно, и до Троицкой обители, доходили, конечно, слухи и про Ольгерда, и про грозно подымающуюся Литву (не забудем литовское платье и литовские шапки бесов в Сергиевом видении!). Доходили вести про отношения с Новгородом, и про поездки в Орду, и, конечно, про непростые семейные трудноты великого князя.
Но все это как бы скользило по поверхности, не проникая глубоко в сознание Сергия. Это было «там», а он был «здесь», и даже не совсем здесь, а где-то в полубредовом-полувосторженном мире, для которого в голосах метели слышались гласы бесовских сил, а умершие тысячу лет назад старцы египетские являлись ближайшими собеседниками. Отцову книгу «Житий», как совершенно ненужную ему, передал Сергию через хотьковских монахов брат Петр и тем премного скрасил долгие молитвенные вечера молодого подвижника. Сергий читал неспешно, шевеля губами, проговаривая про себя каждое слово (читать быстро, глотая страницы, как умел Стефан, Сергий так и не выучился никогда), и перед ним вновь развертывались знакомые картины, известные с детских лет, когда мать читала ему тот же «Лавсаик» или «Синайский патерик» на сон грядущий. И он мягко улыбался, сравнивая льва аввы Герасима со своим медведем. Все повторялось! Повторялось и сходствовало даже и через тысячу лет! Смерти и вовсе не было, ибо жизнь памяти – это единственная реальная жизнь в этом ежедневном кишении мелких и скоропреходящих страстей, в животном круге жизнерождения и гибели, ни в чем, в сущности, не отличном от такого же круга природных сил среди зверей, гадов и птиц, жизнерождений, воспроизводящих раз за разом одно и то же, навечно предначертанное Создателем.
Он думал о смерти. Даже как-то раз представил самого себя упокоившимся на своем твердом ложе, со скрещенными руками. А хижина медленно вмерзала в холод, и он лежал, цепенея и каменея, мысля о том, что вот превращается в лед и тело его пребудет нетленным, доколе хотьковские иноки выберутся сюда, похоронят его и отпоют… Потом, опомнясь, выяснил, что плохо закрыл дверь и реальный живой холод ползет у него по ногам… Думал о чудесно нераздельной и неслиянной троичности Божества; думал о вечном, что было живо, находилось рядом и вокруг, неощутимое и непостижимое смертным разумом. Он думал о вечности, и думы эти подымали его над будничным кругом бытия, заставляя не замечать ни дыма, ни холода, к которому приспособился, привык, ни голода, который свалил бы с ног иного, к тому непривычного. Мы и доселе не ведаем о всех возможностях нашего организма, ибо лечим тело, но не дух, не замечая могучего воздействия духовного на нашу тварную природу, вплоть до самоизлечивания неизлечимо больных, вплоть до удивительной выносливости святых подвижников, отраженной в часто наивных легендах о них, сложенных потомками. Повторим тут то, что говорилось и до нас: духовная работа над собою праведников меняет не токмо их душевный настрой, но и физическую природу, делая ее невосприимчивой ко многому, губительному для нас, обычных людей. Дай Бог, если тысячную долю того, что вручено нам Создателем, используем мы в нашем ежедневно-обычном бытии! Нас поражают, а подчас и ставят в тупик такие заурядные вещи, как способность некоторых (некоторых современников наших, во всем прочем обычных людей!) излечивать язвы простым положением рук, разгонять дождевые облака, слышать то, о чем собеседник только подумал… А меж тем все эти факты засвидетельствованы прессой и подтверждены множеством свидетелей, и все равно нам этого не постичь, ибо мы, пытаясь понять скрытые возможности