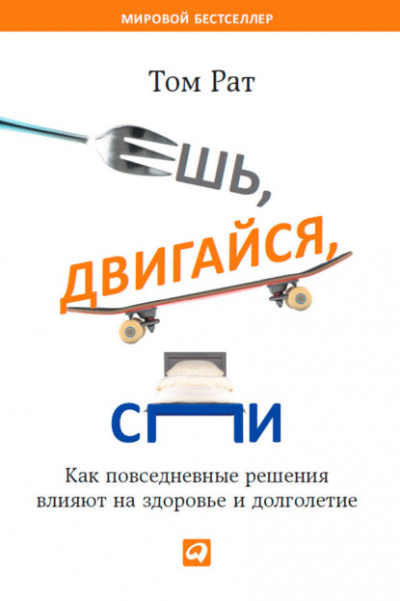Колодец - Абиш Кекилбаевич Кекилбаев
Дети побаивались своего сурового и нелюдимого отца. Он никогда их не бранил, не повышал голоса, лишь изредка поглядывал строго из-под насупленных бровей. И дети при нем притихали, помалкивали.
Епсепу пошел пятнадцатый год, когда отца свалила болезнь. Целый год промыкался он па полосатом паласе в углу лачуги. Знахарей, однако, не подпускал к себе близко, отваживал их богопротивными словами: «Ие на ярмарке я купил свою душу. Бог, однажды расщедрившись, дал ее мне, а теперь он стал скупердяем, пусть берет ее обратно».
Как-то раз, вконец измученный болезнью и голодом — пища не проходила через горло, отец, должно быть, потерял терпение. Изможденный, худой, он приказал матери подать пятигранную камчу, что висела на стене, и нож из маленького ящика для инструментов. Он отрезал у самого основания распущенный кончик плети с вплетенным в него свинцом и густо намазал ее маслом. В лачуге все со страхом переглядывались: никто не догадывался, что задумал отец. Тщательно, до блеска смазав камчу, он в последний раз провел по ней жирной ладонью и потребовал кумыс. Он обмакнул камчу в большую деревянную чашу с крепким кумысом. Губы его слабо зашевелились, он принялся шептать что-то невнятное. Потом запрокинул голову, выставив вперед редкую острую бороденку. С трудом унимая дрожь в руке, отец вытащил камчу из кумыса и затолкал один копен в рот. Пропитанная терпким конским потом, маслянистая, скользкая, словно змея, камча медленно поползла в глотку. Высохшая отцовская рука, заметно дрожа, с усилием толкала ее все дальше и дальше; тощая — одна кожа да кости — рука отчаянно пропихивала ее вглубь. Глаза отца были плотно закрыты. Непомерно большой для тонкой шеи кадык судорожно двигался вверх-вниз под пергаментной кожей.
По вот о зубы щелкнуло железное кольцо у основания рукоятки. На бледном лице отца не было ни кровинки, оно стало синюшным. Одной рукой он продолжал держать камчу за рукоять, другой — сильно надавил на грудь. Он намертво вцепился в камчу зубами, будто хотел ее перекусить. 11а лице выступил пот. И тогда он резко выдернул камчу. Из горла хлынула кровь. Дети, следившие с замиранием сердца за каждым движением отца, заревели в голос, бросились вон. Мать, не смея голосить при муже, закусила губы, кончиком жаулыка вытерла слезы и торопливо подставила ему тазик.
Отцу не полегчало. Пища по-прежнему не проходила через горло. А тут началась такая невиданная жара, что даже здоровый человек не мог найти себе место. Отец ужасно страдал от жажды.
В середине знойного лета он навеки закрыл глаза. Перед кончиной Кулжан подозвал к себе жену и детей.
— Ну, родные, пришел мой конец. Не обессудьте, что не накопил вам никакого добра,— он настолько ослабел, что голос его был едва слышен,— пока будет стоять земля, род караш не помрет с голоду. На худой конец будете ковырять колодцы.
Тогда-то впервые и задумался Енсеп о том, что на свете существуют горемыки, именуемые кудукши. Из разных аулов, где они промышляли своим ремеслом, собрались мужчины рода караш и похоронили отца. Вернувшись с кладбища, пять стариков вызвали во время поминок Енсепа — старшего из детей покойного Кулжана.
— Ну что ж, милый, отца ты лишился. Хоть и строптивым и упрямым бывал покойный, однако в трудолюбии и упорстве отказать ему было нельзя. Жаль, ничего по нажил. Алашу, чтоб завернуть тело, и ту еле нашли в доме. Отрекся он от дедовского ремесла, а оно хоть и никого особо не обогатило, все же семью кормит досыта. А потому не иди ты по стопам отца, а держись за испытанное ремесло нашего рода. Ты теперь опора и кормилец бедняжки матери и малых братьев. Твой дядя Даржан намеревается забрать вас к себе. Держись за пего цепко!
Так напутствовали Енсепа аксакалы и, сложив ладони, благословили его.
В отличие от покойного брата, Даржан был крепкий, рослый и закаленный; обычно он ходил по пояс обнаженный. Разработанные мышцы играли, перекатывались на его мощном теле. Маленькие, словно обрубленные уши были закрыты длинными волосами. У него был плоский, с широкими ноздрями нос, лихо закрученные усы, черная борода, напоминавшая конский хвост, густая и огромная, видно, ее никогда не касалось лезвие. Его гладкий, с большими залысинами лоб маслянисто поблескивал, а огромные, чуть навыкате глазищи с красными прожилками всегда беспокойно шныряли вокруг, будто старались что-то обнаружить.
Даржан был великим молчуном. Дома, на людях он обычно нс произносил ни ласковых, ни бранных слов. Если ему что- нибудь претило или он был сильно не в духе, то, глухо пробурчав: «У, в могилу тебя!..», он снова надолго умолкал.
Люди поговаривали: «Эх-хе-хе, мыслимо ли, чтобы строптивый Кулжан и увалень Даржан родились от одной матери?! »
Когда волосатый, сплошь вымазанный глиной Даржан вылезал из колодца, он, ей-ей, походил на чудовище, выбравшееся на свет божий.
Его жена Ханум была миловидной, крупной, широкой в кости женщиной. Ее круглые глаза излучали мягкий свет. Она пользовалась почетом у родственников и сородичей, к ней тянулись и стар и млад. И только Кулжан, не пожелавший избрать для себя участь колодцекопателя (что это, мол, за существование, сегодня находишь кров возле одного, завтра — возле другого куста, как ворон с перебитыми крыльями!) и предпочтя ремесло кузнеца в кочевом ауле, оставался к ней холоден, как ни старался добряк Даржан возбудить в брате родственные чувства.
Ханум с искренним радушием приняла осиротевшую семью. В честь снохи зарезала ярку и, как положено по доброму обычаю, потчевала родственников. Из инкрустированного, с потайным замком сундука она достала материю, сшила вдове платье и новый головной убор — жаулык. Забот у Ханум заметно прибавилось, опа почти не расставалась с иголкой и наперстком; ходившие в рванье дети отмылись и приоделись. Даже кошма на бедной юрте обновилась.
Ханум не испытала, к горю своему, радости материнства. И теперь, когда рядом поселилась семья старшего деверя и в ее юрте зазвучали звонкие детские голоса, она расцвела, похорошела. В самом младшеньком, Тенсоле, она души не чаяла, баловала: то пичкала свежими сливками, то пончики румяные совала,