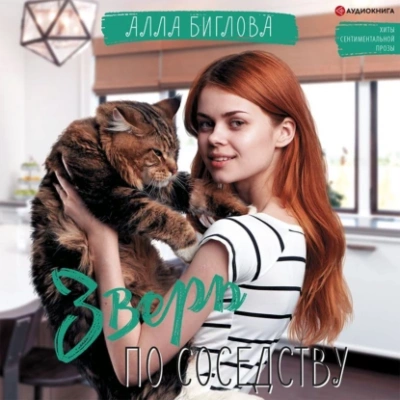Митридатовы войны - Леонид Анатольевич Наумов
Чтобы выяснить, каким видели Митридата эллины и римляне, надо понять, в какой культурно-исторический контекст они помещали царя и его деятельность.
Круг первый – расширение Римской республики. Победа над царем Понта принесла «римлянам величайшую выгоду: благодаря ей они раздвинули пределы своего владычества от Крайнего Запада до реки Евфрата» (Арр. Mithr. 119). Иными словами, Митридат рассматривается ими как великий противник, победа над которым – славная страница римской истории. Само по себе это определяет подход к описанию событий. Но считал ли себя сам царь «вторым Ганнибалом»?
Круг второй – борьба Запада и Востока, которая, по мнению Геродота, идет со времен Троянской войны. В самом деле, на первый взгляд, Митридат однозначно позиционируется как азиатский владыка, двинувшийся на Запад. Нарушая «приказ», который Рим дал царям Азии, «никогда не переходить в Европу», владыка Понта сначала захватил Херсонес, а потом вторгся в Элладу. В первом «преступлении» его обвиняют вифинцы перед римским сенатом. Во втором «преступлении» Митридата обвиняет Сулла при заключении Дарданского мира: «Ты переправился в Европу с огромным войском, хотя мы запретили всем царям Азии даже ногой ступать на почву Европы» (Арр. Mithr. 58). Для римлян, людей Запада, Митридат был азиатским деспотом, который «подготовил к боям против Рима весь Восток» (Just. XXXVIII. 3. 7).
А кем видел себя царь в этом глобальном противостоянии? Начало деятельность Митридата воспринималось многими как продолжение походов Александра Македонского. Помпей Трог пишет: «Благодаря невероятно счастливой судьбе он [Митридат] покорил скифов, до него никем не побежденных, скифов, которые некогда уничтожили полководца Александра Великого Зопириона» (Just. XXXVII. 3. 2.). Речь идет о попытке македонского наместника Фракии покорить скифов около 331 г. до н. э. Как известно, этот поход в Северное Причерноморье закончился неудачей, и Зопирион погиб.
Практически эту же логику развивает и Страбон, который уподобляет полководцев Митридата полководцам Александра: «Ведь Александр открыл для нас, как географов, большую часть Азии и всю северную часть Европы вплоть до реки Истра, а… Митридат, прозванный Евпатором, и его полководцы познакомили нас со странами, лежащими за рекой Тирасом до Меотийского озера и морского побережья, которое оканчивается у Колхиды» (Strabo. I. II.11).
Речь идет о знаменитых Диофантовых войнах. В 111–108 гг. до н. э. понтийский полководец Диофант, сын Асклепидора, сначала разгромил Скифское царство в Крыму, а затем уничтожил войско союзных скифам роксоланов: «Любая варварская народность и толпа легковооруженных воинов бессильны перед правильно построенной и хорошо вооруженной фалангой. Во всяком случае роксоланы числом около 50 000 человек не могли устоять против 6000 человек, выставленных Диофантом, полководцем Митридата, и были большей частью уничтожены» (Strabo. VII. III.17).
Конечно, это убедительная победа: полководец Александра Зопирион погиб, сам великий македонец провел несколько лет в безуспешной войне со скифами Средней Азии, а Диофант, говоря словами декрета Херсонеса, «обратил в бегство скифов, считавшихся непобедимыми, и (таким образом) сделал то, что царь Митридат Евпатор первый поставил над ними трофей». Первый! То есть решил ту задачу, которую поставил, но не смог (не успел?) решить великий Александр. В ходе успешных войн в Северном Причерноморье Диофант также добился присоединения к Понту Боспорского царства и подавил антипонтийское восстание скифов под руководством Савмака. Однако подробный анализ этих событий лежит за пределами данной работы.
Кажется, что мы, анализируя разные источники (Помпея Трога, Страбона, декрет Херсонеса), сталкиваемся в данном случае с одним кругом идей – официальной идеологией Митридата. Собственно, и сам царь говорит об этом: «Ни Александр Великий, покоривший всю Азию, ни кто-либо из его преемников или их потомков не завоевал ни одного из этих народов». (Just. XXXVIII. 7. 1.). В данном случае Митридат имеет в виду не только скифов, но и то, что «ни один из народов, ему подвластных, не знал над собой чужеземной власти, никогда не подчинялся никаким царям, кроме отечественных, взять ли Каппадокию или Пафлагонию, Понт или Вифинию, а также Великую и Малую Армении» (Just. XXXVIII. 7. 2.). Он как бы объединяет их все по одному признаку и показывает, что Понтийское царство включает народы, которые никогда никем не были покорены.
Кажется, что это не просто стилистические приемы, и сам Митридат относился к сравнению его с Александром Великим очень серьезно. «Войдя во Фригию, он завернул в стоянку Александра, считая для себя счастливым предзнаменованием, что там, где остановился Александр, там стал лагерем и Митридат», – рассказывает Аппиан. (Арр. Mithr. 29). У Митридата, «как говорят», хранился плащ («одеяние») Александра Македонского (Арр. Mithr. 117). Все эти примеры не случайны – нумизматический материал лучше всего показывает, что образ Александра был тем архетипом, на основе которого выстраивалась вся идеология Митридата Евпатора. По мнению С.Ю. Сапрыкина, уподобление царя Александру началось в конце II в. до н. э., когда на понтийских монетах изображение Персея—Аполлона (или Митры – Мена) сменилось реалистическим портретом царя как типично эллинистического правителя[43]. По всему Средиземноморью разошлись его статеры и тетрадрахмы с портретом в образе Александра—Геракла. Эту же идею отражает и самый известный бюст понтийского царя, который хранится в Лувре. На нем Митридат изображен как решительный и целеустремленный воин, которого отличает высокая степень одухотворенности, свойственная всем посмертным изображениям Александра и его наследника – царя Понтийского царства»[44].
Впечатление общности образов возникает и при сравнении взаимоотношений Митридата с солдатами. Описывая ранение царя во время победносного сражения при Зеле, Аппиан пишет: «Среди сражающихся возникло смятение и недоразумение… возник страх, нет ли чего ужасного с другой стороны; узнав, наконец, в чем дело, солдаты окружили тело Митридата на равнине и шумели, пока врач Тимофей, остановив кровь, не показал его с возвышенного места. Так было и с македонянами в Индии, испугавшимися за Александра: Александр показался перед ними у храма выздоравливающим» (Арр. Mithr. 89).
Кажется важным подчеркнуть, что Митридат в своей борьбе пытался совместить эллинское и иранское начала. Он подчеркивал, что «среди предков со стороны отца он может назвать Кира и Дария, основателей Персидского государства, а со стороны матери он происходит от Александра Великого и Селевка Никатора, основателей Македонской державы». (Just. XXXVIII. 7. 1).
Побежденные скифы, служили в его армии (Just. XXXVIII. 3. 6–7, XXXVIII. 7. 2). Это важно учесть, для того чтобы правильно понять планы Митридата. Представая в образе Александра—Диониса, Митридат в то же самое время носил ахеменидский титул «царя царей». Как уже говорилось выше, эта «двойственность» Митридата часто воспринимается современными исследователями как коварство и двуличие. Однако необходимо вернуться к тому, как понимали замысел Александра и его современники, и потомки в конце I тыс. до н. э. Представляется, что в отечественной историографии наиболее развернутый анализ планов македонского полководца дан Г.А. Кошеленко в исследовании «Греческий полис на эллинистическом Востоке». С точки зрения историка, в политике Александра можно выделить два аспекта: 1) смешение населения во вновь основанных городах, включение в него македонян, греков, местного населения; 2) отсутствие полисного устройства, единоличная власть поставленных Александром гипархов. По мнению Г.А. Кошеленко, эти особенности градостроительной политики македонского царя полностью отражают суть его замысла – политику слияния эллинов и варваров в единой автократической державе[45]. Иллюстрирует свою мысль отечественный историк речью Александра (в изложении Курция Руфа (VIII. 10–13): «…Я пришел в Азию