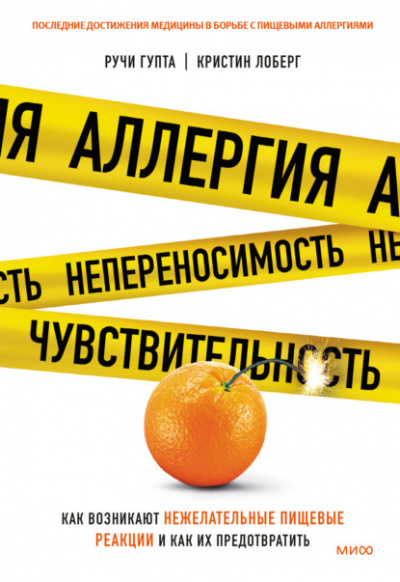Среди призраков. Рассуждение об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта - Эрик Саден
В связи с этим мало-помалу сложится решение: действовать, избегая трения, чтобы в механизмах все двигалось как по маслу, – чтобы они работали на полную мощь и практически никогда не заедали. Этой цели будет служить технологическое новшество: пар постепенно станет вытесняться электричеством – благодаря его применению от копоти, дыма и грохота останутся одни воспоминания, связанные с другой эпохой, чуть ли не варварской. Более мощный и в то же время менее шумный источник энергии вскоре выделит ставший приоритетным промышленный императив: достигать оптимального баланса и не допускать конфликтов при взаимодействии человек – машина. Так родится новая область – менеджмент. Один из его отцов-основателей, Фредерик Тейлор[45], на рубеже 1880-х годов отслеживавший малейшее снижение производительности из-за эмпирической организации производства, подкрепил свои наблюдения теорией[46]. Спустя три десятилетия Генри Форд будет старательно, почти маниакально, применять ее на своих автомобильных заводах с четко организованными и более цивилизованными конвейерами. Конец попыткам втихаря отлынивать от работы, лодырничать больше не выйдет, но прервется и череда несчастных случаев, которые нередко приводили к увечьям. Теперь рабочие в форменной одежде организованно перемещаются по чисто вымытым цехам, их движения отточены, они словно следуют партитуре и обязаны лишь попадать в размеренный и непрерывный ритм техники. Как персонаж, напоминающий автомат, которого Чарли Чаплин играет в фильме «Новые времена», снятом в 1936 году.
Настает «эра „организаторов“», описанная Джеймсом Бернхемом[47] в книге с таким же названием, опубликованной в 1941 году[48]. В ней рассматривается постулат социальной инженерии, переживавшей тогда подъем и подкрепленной идеологией, которая по сей день упрочивает свои позиции: в любых обстоятельствах отводить людям и вещам предусмотренные для них места, чтобы результат при этом все больше зависел от расчета и планирования. Вскоре эта большая задача становится нормой как в западных демократических странах, так и в Советском Союзе, гитлеровской Германии, муссолиниевской Италии. Строгое упорядочение людей и пространства – с претензией на научность – достигнет уров-ня основополагающей нормы. Принцип найдет разнообразное воплощение – вплоть до модернистской архитектуры и градостроительства с их выверенными планировками, разделением на функциональные зоны, бесконечно повторяющимися конструктивными элементами, – и более того, распространится на фашистские постройки, словно воплощающие недосягаемую власть и давящие своей величественной и беспощадной авторитарностью, как, например, в «метафизической живописи» Джорджо де Кирико. В связи с этим в 1923 году философ Макс Шелер[49] в труде «Ресентимент в структуре моралей» будет сокрушаться, что «этот мир представляет собой множество логиков, находящихся в исполинском машинном цехе», и сожалеть об «опустошительных тенденциях индустриализма»[50].
В правой части гигантского полотна изображены заводы с величественными трубами, толпы, сгибаемые тяжким трудом, паровозы и пароходы… Окутанные дымом пейзажи с преобладанием серых и черных тонов, относящиеся к «старому миру». На противоположной стороне, слева, возникает зарождающийся мир. Люди работают в более здоровых условиях, у них есть время для досуга. Городской пейзаж пестрит кинозалами, проходят концерты, всюду ночная жизнь бьет ключом, как на разноцветном и радостном празднике 14 июля. Панно «Фея электричества», написанное Раулем Дюфи в 1937 году (Музей современного искусства, Париж), – свидетельство прихода цивилизации, соединившей технологии, индивидуумов и коллективную среду в совершенно новой динамике, в вибрирующем ритме нескончаемой городской суеты, в мире, изобилующем торговыми и развлекательными заведениями, рекламными щитами и неоновыми вывесками, которые расхваливают товары и подогревают желания, наполняя чем-то пьянящим, скажем, Таймс-сквер в Нью-Йорке, Пикадилли-серкус в Лондоне или пляс Пигаль в Париже. «Кинетическая религия», по выражению Петера Слотердайка[51], похоже, вытеснила все остальные.
Вырисовывается идеальное подобие: ведущая технология, использующая электрический ток, индивидуумы, покорно разыгрывающие все более четко выверенные мизансцены – на производстве или когда они, словно мотыльки, тянутся к освещенным витринам магазинов, – и общество, которое как будто заряжается от аккумулятора постоянного тока и не перестает всеми силами поддерживать это современное бурление. Начинается эпоха, которую называют дромологической, пользуясь понятием, предложенным Полем Вирильо[52], от неологизма, восходящего к древнегреческому «дромос» (бег, действие, совершаемое на высокой скорости)[53]. В этой неистовой динамике все в одночасье замрет с началом Второй мировой войны. А когда сражения закончатся и все, особенно в странах, которые мы называем «западными», захотят возродить дух, несущий «прогресс и богатство», некоторые ведущие технологические достижения, все эти годы разрабатывавшиеся в военных исследовательских лабораториях, станут применяться в иных целях. Так во младенчестве соединятся общество потребления и общество рационализма.
Как мы начали зависеть от программ
Война охватит территорию от Европы до Азии и Африки, полностью мобилизует Соединенные Штаты, отметит начало нового периода для человечества – эры грандиозных масштабов. Тучи самолетов, стирающие с лица земли целые города; колоссальные массы перемещаемых войск и техники, и в первую очередь – высадка союзников на нормандском побережье в июне 1944 года; создание и применение атомной бомбы, всего за несколько секунд уничтожившей десятки тысяч жизней. Чрезмерность как будто задала тон истории. По окончании военных действий тяга к гигантизму проявится в усилиях по восстановлению, быстро став камертоном для всего общества. Этос масштабности будет повсюду стимулировать двузначный экономический рост и порождать непомерные прибыли, однако он также не исключает, что творение может «избавиться» от своего создателя. Существуют вещи, неподвластные человеку. Капля переполнит чашу, и настанет день, когда где-то вновь воцарится беспорядок и нависнет тень хаоса.
Не случайно еще в 1950-х годах ученые, – большинство из которых бежали из нацистской Германии и Европы на другой берег Атлантики, – при виде разрушительных последствий войны и желая, чтобы подобное бедствие больше не повторилось, усвоят как аксиому: надо строить вычислительные системы, способные оптимально управлять всем комплексом дел человеческих. Причем копировать их следует с предмета, воплощающего высшую форму разума, – таковым является наш мозг. Наступила младенческая пора кибернетики, взявшейся придать универсуму динамичный и в то же время мирный порядок с помощью артефактов (искусственных объектов). Предполагалось наделить их нашими когнитивными способностями, но со временем они наполнились несравнимо большей силой. Искусство тех лет в своем тогдашнем состоянии едва ли было способно откликнуться на эту идею или прихоть – она начнет полноценно воплощаться лишь полвека спустя. Так что задачу, совсем в иных формах, решит другое направление развития, на первый взгляд скромное, но день ото дня все более содержательное: речь