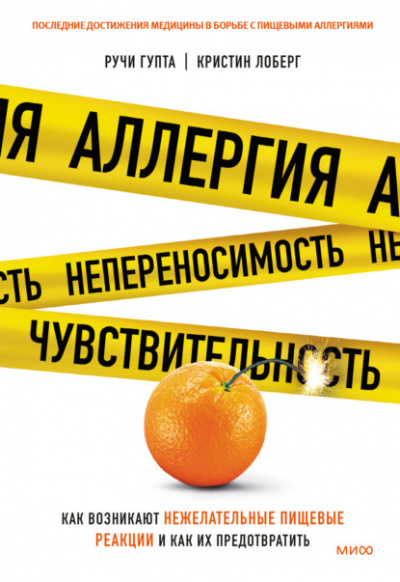Среди призраков. Рассуждение об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта - Эрик Саден
Неотъемлемое свойство техники, сомасштабной человеку, в том, что под результатом любой работы, – но как бы незримо, – ставится подпись одного или нескольких людей, в ней участвовавших. Прежде всего это характерно для ремесла в том понимании, в каком оно восходит к латинскому faber[39]. После Аристотеля это понятие переосмыслила Ханна Арендт – как исключительно человеческое качество проявлять свои способности в основном с помощью рукотворных предметов и придавать форму своим намерениям таким образом, чтобы в конечном счете создавались произведения[40]. Имеется в виду труд как добровольный акт, свидетельство нашей уникальности, когда мы в полной мере – деятельная сторона, выполняющая некую задачу, чтобы в итоге ощутить скромное удовлетворение от хорошего результата. Не случайно Уильям Моррис[41] утверждал, что фигуру ремесленника отличает овладение всеми этапами производства, «когда можно сказать, что создаваемый предмет – его собственное творение»[42]. Кроме того, отличие ремесла в том, что оно редко практикуется в одиночку и нуждается в совместном применении различных навыков – с непременным уважением друг к другу, – откуда мораль: нужно ценить личный вклад каждого внутри гармоничного целого, преследуя общие задачи.
Неприятный парадокс: не успела наступить эпоха Просвещения, возвеличившая идею прогресса, понимаемого как исторический процесс неуклонного улучшения условий частного и коллективного существования, особенно благодаря техническим достижениям – и сообразно идее гуманистической чувствительности, – как они, эти достижения, утрачивают свою изначальную суть. Действующая сила, которая в них заключена, нивелируется, уступает иной философской позиции: какими бы средствами мы ни располагали, отныне – на все более системной основе – можно пользоваться устройствами, чья производительность неизмеримо превышает нашу. Путь к максимально масштабному производству по целому ряду направлений, число которых будет только расти, – так обозначится основная цель. Мы будем наблюдать рождение технологий, или технико-экономической сферы. Отныне смысл не в том, чтобы инструменты служили нам подспорьем, дабы как следует выполнять ту или иную работу, и требовали – в лучшем случае – знания дела. Теперь они производятся, чтобы приносить прибыль, намного превосходящую то, что можно заработать одной лишь ручной силой, – промышленную прибыль, масштаб которой не соотносится с человеческим. Индивидуум меняет статус. Из основного вектора преображения реального он превращается в деталь, подчиненную динамическим процессам, на периферии которых находится.
Только сейчас – в силу систематической повторяемости на протяжении веков – нам удалось уловить феномен, прежде остававшийся в тени: мы говорим о фрактальной размерности применительно к технологиям, индивидуумам и обществу. Имеется в виду, что в разных вещах встречаются порой совершенно идентичные структуры – хоть и различного масштаба. Собственно, это и породило технологическую эру. От появления парового двигателя до наших дней. В момент зарождения фрактала, образующего совершенно новый гомологический ряд – технологии, индивидуум, общество, – наблюдается то же трение от противодействия сил, которое будоражит каждую из трех сфер. Во-первых, технологии, суть которых теперь – сжигая уголь, приводить в движение механизмы. Твердый углерод должен вызвать кипение; две субстанции, огонь и вода, будучи на разных полюсах, создают напряжение, в котором – под влиянием диалектического процесса, если пользоваться гегельянско-марксистскими понятиями, – рождается нечто третье: пар и выработанная энергия.
Это же несогласованное равенство относится к индивидуумам, которые в абсолютном большинстве, с одной стороны, вкладывают в труд собственные силы, но сами низводятся до уровня машин – и этим напоминают Ламетри[43], который в 1747 году приравнял человека к машине, «заводящей саму себя»[44]. Внутренний разрыв имеет место в каждом – между личностью, принадлежащим ей богатством и обезличенной деятельностью, которой она подчинена. Наконец, подобным же образом общество окажется разделено на две диаметрально противоположные составляющие. С одной стороны, «трудящиеся массы», образующие, если смотреть издалека, по-настоящему плотные ряды. С другой – буржуазия: она извлекает прибыль из произведенной таким образом продукции, торгуя ею или содействуя развитию системы кредитования, и пользуется комфортом, который эти товары приносят. Не успели мы и глазом моргнуть, как сложилась социально-политическая модель, зажатая в неослабевающие тиски угрозой перегрева. На первом этапе своего существования фрактальная троица будет взрывного типа, – она повлияет на структуру всей эпохи и изрядно ее встряхнет. Настолько, что одни увидят единственный путь к спасению в подмыве ее основания, а другие тем временем, по-прежнему не желая упускать ни капли выгоды, примутся ловко менять ее слагаемые.
Фея электричества
Опубликовав в 1867 году «Капитал», Карл Маркс словно ударил в гонг, возвестив о начале, – назовем это так, – «яростного пятидесятилетия». Если брать основные вехи, то это период от Парижской коммуны 1871 года до Русской революции 1917-го. То есть большой исторический отрезок, когда, с одной стороны, рабочая сила в подавляющем большинстве была занята добычей угля, который сжигался в качестве топлива, а также производством машин и товаров и, перебравшись из деревни на окраины разросшихся городов в поисках средств к существованию, столкнулась с ухудшением условий жизни, нестабильностью, физическими и духовными травмами. С другой стороны, появилась хоть и куда менее многочисленная, зато стабильно растущая категория тех, кто сможет пользоваться новыми возможностями для создания комфорта, улучшенными гигиеническими условиями, проложенными железными дорогами, курортами, открывшимися универмагами и множеством других преимуществ современной роскоши. Часто эти люди будут наводнять столичные улицы, – с недавних пор в городе стало чуть легче дышать, – и раскручивать большую процветающую экономику, делая в одночасье огромные состояния.
Диспропорция неизбежно вызвала вспышки недовольства, забастовки, волнения, политизировала умы. Безусловно, все завертелось слишком быстро, отсюда – столкновения, поломанные судьбы людей, которые при этом мрачно наблюдали за другими судьбами, складывавшимися намного удачнее. Неудержимое, казалось бы, движение, в чем-то вторившее ритму паровых машин, но подгоняемое кипением, которое вскоре выйдет из-под контроля, быстро превратилось в пороховой заряд под этим гордо возвысившимся, но, в сущности, таким хрупким зданием. Нет, промышленный капитализм отнюдь не был синонимом «прогресса» – такого, который с регулярным постоянством гальванизировался, предъявляя созданные им диковины на Всемирных выставках,