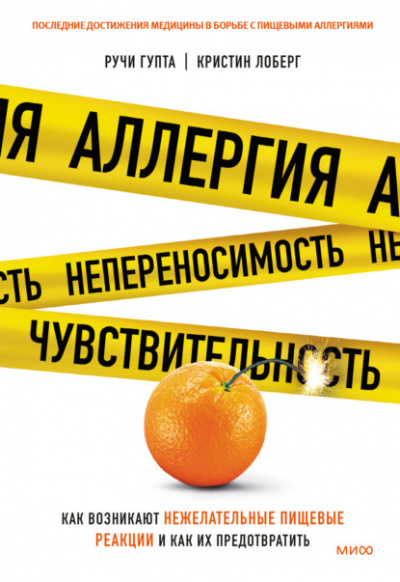Среди призраков. Рассуждение об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта - Эрик Саден
К тому же, в отличие от книги, читать которую можно, свободно распоряжаясь временем и периодически отрывая взгляд, чтобы поразмышлять, делая на ходу пометки, телевизионная программа – процесс непрерывной трансляции, который не оставляет возможности дистанцироваться, поскольку синхронизирует потоки передачи сигнала и восприятия. У киноизображения такой же эффект, но за ним мы следим по условиям краткосрочного договора (приходим в кинозал, чтобы затем оттуда уйти); телевизор – предмет мебели, а потому постоянно с нами, маячит перед глазами, стоит нажать на обычную кнопку – он вновь озаряется, и мы позволяем этому «свету в конце тоннеля[58] на конце трубки» завладеть нами на заранее не определенное время. Эта повторяющаяся сцепка смещает зрительный фокус.
Экран становится главным объектом внимания в домашнем пространстве и требует находиться непосредственно перед ним. Люди и предметы обстановки – по крайней мере, в главном помещении – вскоре начинают распределяться соответственно, как будто это место короля, которого они лицезреют на манер придворных, толпящихся на королевских ужинах Людовика XIV. В результате добавляется еще одно, менее очевидное, свойство – именно его сразу заметил Пазолини: невидное, но вполне реальное обособление людей, когда все отворачиваются друг от друга, хоть и сидят все вместе, поддавшись, точно мотыльки, гипнотическому влечению стеклянного камина. Разнообразие занятий, которым до сих пор предавались в доме, с появлением телевизора скудеет, а наиболее рутинные действия сопровождаются просмотром – семейный ужин теперь проходит, можно сказать, в благоговейной тишине: все дружно наблюдают или через равномерные паузы комментируют непрерывное течение жизни в процессе телеслежения.
Другой утрачивает по отношению к нам роль визави, становясь «сонаблюдателем». Как тут не увидеть возникновение одного из главных рычагов индивидуализации общества – тренда, который с послевоенных времен только усиливается? Околдовывая зрителей, телевизионная экономика выдала свою первую зримую версию так называемого параллелизма существования – впоследствии, за несколько десятилетий он станет еще заметнее, ведь мы все исправнее будем подтягиваться к экранам. Сколько людей сидят, обратившись в одну сторону, словно перед алтарем, с преданной душой – или «выключенными мозгами», если использовать ставшее с тех пор расхожим выражение программного директора крупнейшего частного телеканала Европы, который как-то раз, почти не стесняясь, признался, что именно этого и добивается[59]. В сущности, задача была несложной, учитывая особое свойство телевидения и его светящегося голубого экрана, который скоро заиграет красками: что бы ни показывали в эфире, он почти всегда будет обладать небывалой притягательной силой, можно сказать – дьявольской. Это непрерывное свечение и иллюзия, будто весь мир собирается здесь специально, сильнее нас, просто так не отделаешься. В этом смысле телевизор, а позднее мобильный экран – вещи отнюдь не банальные и ни с чем не сравнимые: с раннего детства до старости они вытесняли на второй план все, что окружало многих из нас. «Если далекое оказывается слишком близким, то близкое отдаляется или размывается. Когда призрак становится реальным, реальность делается призрачной. Истинный домашний очаг затух, это уже не очаг, а всего-навсего контейнер – в нем хранится экран во внешний мир»[60] – эти восхищающие своей проницательностью слова написал в 1956 году Гюнтер Андерс.
Не заставило себя ждать такое явление, как досуг, или времяпрепровождение, – в виде все более активного потребления визуальных образов, культивируемого индустрией, которая сумеет десятилетиями совершенствовать приемы, вызывающие привыкание, возвышать звезд в пайетках, играть на зрелищности и сенсационности. А еще на усталости масс, которым после рабочего дня и выматывающего транспорта хочется одного – развеяться, не прилагая лишних когнитивных усилий, благодаря всем этим отвлекающим средствам, безусловно несерьезным, но на фоне бледных повторяющихся будней способным подарить здоровую порцию отдыха и утешения. По мере того как разворачивалась медиаистория наше-го времени, – сопровождавшаяся развитием общества потребления посредством рекламы, для которой на рубеже восьмидесятых телевидение станет главной демонстрационной площадкой, хотя из-за своей преждевременной кончины Пазолини не успеет это увидеть, – распространился еще один тип стеклянного экрана. Он прочно привяжет к себе тела и души, но будет выполнять совсем другую задачу: все глубже внедрять процессы «заорганизованности» и рационализации. Начало положено, дальше все будет только усугубляться: и днем и ночью столь значимый горизонт нашего бытия продолжит превращаться в пиксели.
Неопалимые пиксели
До середины 1970-х годов, говоря о телевизоре, использовали именно это слово, а не «экран». Последний в основном связывался с кино. Лишь потом «экран» стал обозначать стеклянную светящуюся поверхность, обеспечивавшую невероятные возможности. Проникновением компьютеров в корпоративный и административный мир отмечен второй этап истории информатизации. Значительные объемы данных, которые обрабатывались процессорами, больше не приходилось распечатывать на казавшихся бесконечными бумажных гармошках. Цифры, буквы, всевозможные сведения во все более разнообразных форматах стали отображаться на экранах. Эффект не замедлил сказаться: поскольку устройство связано с базами данных, – где уже есть прототипы структурирования информации, – стучать по подключенной клавиатуре приходится меньше, пользователь должен просто реагировать на то, что перед ним появляется. Служащий имеет дело с субстратом, который, в свою очередь, упорядочен. Человек становится субъектом по отношению к программе (в двояком смысле: компьютерной и чем-либо заданной), с установленным порядком вещей, продолжение которого нужно обеспечивать в зависимости от порученной тебе функции. Взять, к примеру, банковского специалиста по работе с клиентами: чтобы дать или не дать кредит, он копается в истории заявителя, в соответствующей статистике. То есть к процессу подключается третья сторона – своего рода неуловимое Сверх-Я. Оператор, зачастую неосознанно, становится продолжением рационального начала, выраженного через интерфейс и некие намерения. С тех пор и до наших дней это явление каждый раз фоном повторяется в ответ на все более многообразные цели и в дальнейшем будет только развиваться.
Второе столь же неявное следствие применения компьютера в том, что он забирает все наше внимание; его размеры изначально задуманы так, что когда мы оказываемся перед ним, он занимает практически все поле нашего зрения. Взгляд смещается: каждый из нас сосредоточивается на предмете, предназначенном, можно сказать, исключительно для него. Эффект такой ситуации – перегородка, возникающая между людьми, которые что-то делают в одном и том же месте. Мы не перестанем убеждаться – особенно впоследствии, – что все более длительное пребывание перед экраном