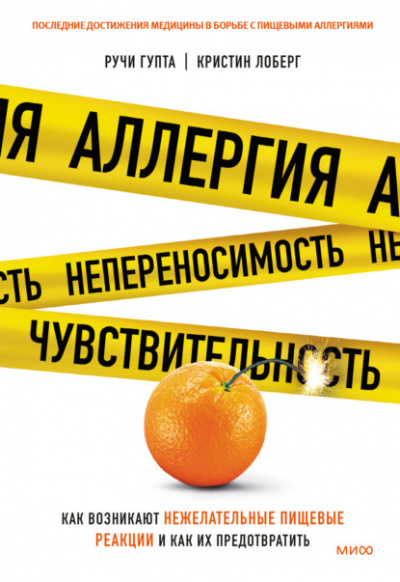Среди призраков. Рассуждение об эпохе метавселенной и генеративного искусственного интеллекта - Эрик Саден
Реальное время и стирание границ
Другое мерило опыта, время – в классическом кантовском понимании, – мы как будто вообще отвергли, раз оно перестало быть для нас необходимым, хоть и скрытым фактором для выполнения все большего числа действий и играет все меньшую роль в порядке, определяющем наше существование. Вместо него теперь – реальное время. Понятие, изначально пришедшее из языка компьютерщиков и обозначающее временной отрезок между командой, которая дается системе, и ее выполнением, причем его продолжительность столь незначительна, что он почти незаметен. Например, когда мы нажимаем на клавишу с буквой и тотчас видим, как символ появляется на экране, создавая иллюзию полной синхронности. Рамки нашего восприятия и действия все больше зависят он вычислений, проводимых с неограниченным ускорением и как будто свободных от любых сдержек. Вместо неизбежного сопротивления пространства и времени, прежде чем усилия увенчаются успехом, – моментально выполняемые команды, которые все чаще можно подать легким касанием или голосом, правда, содержат они не столько наши заветные желания, сколько обычный выбор из множества вариантов.
Попробуем представить, какие последствия ждут психику, если повседневность будет напоминать изучение ресторанного меню с мгновенным выносом блюд, – что позволит отправить в чулан само понятие «предел возможного». Между тем от нашей физической реальности неотъемлемы и составляют основу морали законы и обычаи, регулирующие отношения между людьми. Границы реального – в отдельно взятых обстоятельствах – слегка корректируются в угоду нашим «предпочтениям», принимают виртуальное измерение в том смысле, что все наши желания и импульсы, раз уж им может потакать процессор, вполне способны реализоваться. В таком формате проявляется совершенно новый тип подчиненности, поскольку наши умы и тела утрачивают функциональную автономность и постоянно связаны с внешними протоколами. Несомненно, налицо наиболее стойкая и скрытая форма современного отчуждения – не подчинение капиталистическим сущностям, чтобы обеспечить себе выживание, но прочное, хоть и слабо просматривающееся, соединение с ними, чтобы любому из нас оставалось просто существовать в различных ситуациях повседневной жизни.
В конце концов технологии и жизнь станут полностью неразличимы или же технологии будут служить «оросителем» для вещества нашей жизни. Различные формы технолиберальной логики, – вдохновленные, в частности, витализмом Бергсона, – доведут жизнь до столбнячных судорог: вместо принципа случайности, генеративного по сути и характерного для всего живого, она получит организованную программируемую структуру. Таким образом сегодня выясняется, что наша человеческая ситуация, – которая всегда была неотделима от зависимой и конечной реальности нашего тела, от пространства, от времени, как и от наших мыслительных способностей и ума, – не остается неизменной и, напротив, может трансформироваться, причем меняются не столько наши гены или физиологическая организация, сколько каркас, на который опирается система нашего бытия.
Долг философский и моральный
В свете такого антропологического сдвига нам не хватает правильных инструментов. Имеющиеся способы представления и категории либо совсем не приспособлены к делу, либо их искаженная оптика не дает разглядеть то, что происходит в действительности. Ведь теперь тем более есть вещи, которые остаются выше нашего понимания, непостижимы разумом. За два последних десятилетия так называемые цифровые инновации сформировали императив – всегда быть впереди, служить эталоном динамичности и успеха, который благодаря росту авторитета блистательной отрасли и «капиллярному эффекту» стал своеобразным камертоном для всего общества. Все, что уже существует, вдруг отнесли к категории вторичных данных, а часто и вовсе подозревают в устаревании. Символическое превосходство получила продукция, которая еще не вышла: заявляется, что она будет обладать расширенной функциональностью и лучшими характеристиками. Царит постоянная неудовлетворенность, рассматриваемая как рычаг для бесконечных улучшений, а заодно – источник новых прибылей. Предметом нашего внимания и усилий неуклонно становится следующий шаг, а текущий ход вещей воспринимается как де-факто прерывистый, полный пробелов и подлежащий вечному совершенствованию. То есть предприятия, консалтинговые фирмы, политические кабинеты и престижные учебные заведения – все прониклись прогрессистским духом чуть ли не религиозного свойства. Мы бы сказали, что этот неистовый ритм обусловлен явлением десинхронизации.
С одной стороны, мы имеем силы, сумевшие навязать свою логику, главенство интересов, видение мира, а с другой – общество, многого лишившееся перед лицом такого развития, преподносимого как нечто само собой разумеющееся. За всем этим – решающие политические и моральные ставки, которых мы не сделали. Когда в 1962 году один журналист спросил Олдоса Хаксли на закате его жизни: «Как вы думаете, сегодня общество – локомотив для ученых или, наоборот, ученые тянут за собой общество?» – автор романа «О дивный новый мир» ответил: «Полагаю, что скорее ученые тянут за собой общество; в конце концов, это ученые играют на дуде, а общество пляшет». Сегодня это суждение можно перефразировать: технико-экономическое царство определяет рамки нашего существования, а общество хочешь не хочешь с этим мирится. Можно сказать, что у нас досадная привычка поздно просыпаться – когда все процессы уже внедрились. Отставание не раз приводило к отказу от инициатив и к попятному движению. Кроме того, оно заставляет нас следующим шагом выбрать панацею – апостериорное регулирование, хотя на самом деле это средство помогает лишь немного зализать раны. Вопреки нашей почти природной тяге к инертности пробудить в нас ответственность должно было бы столкновение нового типа: борьба за время. Она требует не подчиняться этому ритму, опустив руки. И более того, уловить вновь складывающийся этос, – пусть это заставит нас действовать, – прежде чем он станет нормой.
Неотвратимое настоящее
Такой приоритет не возникнет из смутного желания, тут требуется методологический инструментарий. Вот что должно стать предметом современной философии. Предметом, который, по выражению Мишеля Фуко, безусловно, требует от исследователя – в его области – «диагностики настоящего»[31]: распознать так или иначе завуалированные факты, полагаемые значимыми, соединить некоторые из них возможными связующими нитями, создавая картографию текущих обстоятельств, чтобы сделать их понятнее для всех. Однако ныне, во времена, когда торнадо приходят один за другим, видимо, простой диагностики настоящего недостаточно, нужна диагностика грядущего, или неотвратимого настоящего. В отличие от чисто умозрительного обращения к будущему. Вроде прогнозов на сорок лет вперед от Рэя Курцвейла[32], типичный источник которых – досужие измышления, лишенные всякого